МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИКТ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА М.Ю.ЛЕРМОНТОВА И А.П.ЧЕХОВА)
ТАШКЕНТ 2016
Абдуллаева С.Х. Доспанова Д.У. “Методическое пособие по проведению литературных чтений (на материале творчества М.Ю.Лермонтова и А.П.Чехова ) / ТУИТ. 140с. Ташкент, 2016
Включение в учебную программу по русскому языку дополнительного материала по литературному наследию русского народа позволяет расширить познания студентов по культурному наследию России.
Настоящее пособие, предназначается для студентов-бакалавров всех направлений для внеаудиторного чтения. Пособие содержит богатый материал о жизненном пути и творческой деятельности великих русский писателей М.Ю. Лермонтова и А.П.Чехова. Также, включены некоторые рассказы писателей, знакомство с которыми поможет войти в этот интересный, сложный, художественный мир. Дидактический материал представлен по принципу кейс-стади.
Рецензенты:
Преподаватель кафедры узбекского
и русского языков ТУИТ Меденцева Н.П.
К.п.н., доцент УзГУМЯ Караева К.Н.
Ташкентский университет информационных технологий, 2016
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
Глава I
Биография
 Михаил
Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841) гениальный русский поэт. Родился в Москве в
ночь со 2 на 3 октября 1814 года. По материнской линии происходил из богатого
дворянского рода Столыпиных.
Михаил
Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841) гениальный русский поэт. Родился в Москве в
ночь со 2 на 3 октября 1814 года. По материнской линии происходил из богатого
дворянского рода Столыпиных.
По отцовской линии род Лермонтовых ведет свое начало от Георга Лермонта, выходца из Шотландии. Находясь на службе у польского короля, в 1613 году при осаде крепости Белой, Георг Лермонт был взят в плен и перешел на сторону русских, сражался в чине офицера в отряде Д. Пожарского и за хорошую службу получил грамоту в 1621 году на владение землей в Галическом уезде Костромской губернии. От него и пошли Лермонтовы. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком шотландского воина.
 Мать
Мария Михайловна Арсеньева (1795- 1817) была типичной для того времени
романтически настроенной девушкой, воспитанной на нравоучительных, очень
распространенных в России романах. Она училась в одном из петербургских институтов
для дворянских девиц, у нее в бытовом обиходе были альбомы с выписками из
любимых авторов, она пела модные тогда чувствительные романсы, играла на
фортепиано, мечтала о любви... Для девушки такого склада типично была
покорность воле родителей. Но в характере Марии Михайловны, вероятно, было
что-то от материнской властности: эта хрупкая, мечтательная девушка, полюбив
бедного армейского капитана из «захудалого» дворянского рода, сумела добиться
своего - выйти за него замуж, преодолев сопротивление матери и ее родных.
Мать
Мария Михайловна Арсеньева (1795- 1817) была типичной для того времени
романтически настроенной девушкой, воспитанной на нравоучительных, очень
распространенных в России романах. Она училась в одном из петербургских институтов
для дворянских девиц, у нее в бытовом обиходе были альбомы с выписками из
любимых авторов, она пела модные тогда чувствительные романсы, играла на
фортепиано, мечтала о любви... Для девушки такого склада типично была
покорность воле родителей. Но в характере Марии Михайловны, вероятно, было
что-то от материнской властности: эта хрупкая, мечтательная девушка, полюбив
бедного армейского капитана из «захудалого» дворянского рода, сумела добиться
своего - выйти за него замуж, преодолев сопротивление матери и ее родных.
 Отец
поэта — Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831) отставной капитан, владел небольшим
имением в Тульской губернии, дававшим незначительный доход. В свое время он
окончил Первый кадетский корпус в Петербурге и в 1805-1808 годах был в походах
за границей во время войн с Францией и Швецией. В 1811 году, объявив себя
больным, вышел в отставку. В 1812 году вступил офицером в Тульское народное
ополчение, был ранен, лежал осенью 1813 года в
госпитале в Витебске. В начале 1814 года вернулся домой.
Отец
поэта — Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831) отставной капитан, владел небольшим
имением в Тульской губернии, дававшим незначительный доход. В свое время он
окончил Первый кадетский корпус в Петербурге и в 1805-1808 годах был в походах
за границей во время войн с Францией и Швецией. В 1811 году, объявив себя
больным, вышел в отставку. В 1812 году вступил офицером в Тульское народное
ополчение, был ранен, лежал осенью 1813 года в
госпитале в Витебске. В начале 1814 года вернулся домой.
С Марией Михайловной Юрий Петрович познакомился в селе Васильевском, где она гостила у родственников - это недалеко от лермонтовского имения. Их свадьба состоялась почти против воли Е.А. Арсеньевой, которая с этого времени невзлюбила зятя.
Детские годы Михаила с марта 1815 года, прошли в селе Тарханы Пензенской губернии (ныне с. Лермонтово Пензенской области) в имении бабушки Е.А. Арсеньевой.
Прекрасная природа, заботливое отношение бабушки, отличное домашнее образование, которое было стандартом в дворянской среде того времени, всё способствовало нравственному и духовному развитию будущего поэта.
Первыми учителями Лермонтова были грек, больше занимавшийся скорняжным промыслом, чем уроками, домашний доктор Ансельм Левис и пленный офицер наполеоновской гвардии; француз Капэ. После смерти Капэ наняли французского эмигранта Шандро, описанный впоследствии Лермонтовым в "Сашке" под именем маркиза de Tess, "педанта полу забавного", "покорного раба губернских дам и муз", "парижского Адониса". Шандро скоро сменил англичанин Виндсон, знакомивший Лермонтова с английской литературой, в частности с Байроном, который сыграл в его творчестве такую большую роль.
В Тарханах Лермонтов с детства наблюдал картины крестьянского быта и сельской природы, прислушивался к народным песням, преданиям о Степане Разине, Емельяне Пугачеве. Семейное счастье семьи Лермонтовых продолжалось недолго. 24 февраля 1817 года, в возрасте 21 года, скоропостижно скончалась мать Лермонтова, далее последовала ссора хозяйки Тархан Елизаветы Алексеевны с Юрием Петровичем Лермонтовым, отцом Михаила, и он уже на девятый день после смерти жены вынужден был уехать в свое небольшое имение в Тульской губернии, чтобы сохранить за сыном право наследования Тархан (4081 десятин земельных угодий и 496 крестьянских душ). Этот факт сильно омрачил детские годы Лермонтова, отец отныне лишь изредка появлялся в доме Арсеньевой. Михаил разрывался между отцом и бабушкой. Свои переживание впоследствии он описал в драме "Люди и пристрастия". Всю жизнь Михаил следовал наказу отца;
«...ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими... это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу! ...ты имеешь, мой сын, доброе сердце, — не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему есть единственное средство жить и умереть
 Детство
Детство
Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, страстно любила внука, который в детстве не отличался сильным здоровьем Энергичная и настойчивая, она употребляла все усилия, чтобы дать ему всё, на что только может претендовать продолжатель рода Лермонтовых. О чувствах и интересах отца она не заботилась. Лермонтов в юношеских произведениях весьма полно и точно воспроизводил события и действующих лиц своей личной жизни. В драме с немецким заглавием— «Люди и пристрастия» — рассказан раздор между его отцом и бабушкой.
 Лермонтов-отец не в состоянии был воспитывать
сына, как этого хотелось аристократической родне, — и Арсеньева, имея
возможность тратить на внука «по четыре тысячи в год на обучение разным
языкам», взяла его к себе с уговором воспитывать его до 16 лет и во всем
советоваться с отцом. Последнее условие не выполнялось; даже свидания отца с
сыном встречали непреодолимые препятствия со стороны Арсеньевой.
Лермонтов-отец не в состоянии был воспитывать
сына, как этого хотелось аристократической родне, — и Арсеньева, имея
возможность тратить на внука «по четыре тысячи в год на обучение разным
языкам», взяла его к себе с уговором воспитывать его до 16 лет и во всем
советоваться с отцом. Последнее условие не выполнялось; даже свидания отца с
сыном встречали непреодолимые препятствия со стороны Арсеньевой.
Ребенок с самого начала должен был сознавать противоестественность этого положения.
В неоконченной юношеской «Повести» описывается детство Саши Арбенина, двойника самого автора. Саша с шестилетнего возраста обнаруживает наклонность к мечтательности, страстное влечение ко всему героическому, величавому и бурному. Лермонтов родился болезненным и всё детство страдал истощением; но болезнь эта развила в ребёнке необычайную нравственную энергию.
В «Повести» Лермонтов признается влияние болезни на ум и характер героя: «он выучился думать... Лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, Саша начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой... В течение мучительных бессонниц задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грёзами души... Вероятно, что раннее умственное развитие немало помешало его выздоровлению»...
Это раннее развитие стало для Лермонтова источником огорчений: никто из окружающих не только не был в состоянии пойти навстречу «грёзам его души», но даже не замечал их. Здесь коренятся основные мотивы его будущей поэзии разочарования. В угрюмом ребёнке растёт презрение к повседневной окружающей жизни. Всё чуждое, враждебное возбуждало в нём горячее сочувствие: он сам одинок и несчастлив,— всякое одиночество и чужое несчастье, происходящее от людского непонимания, равнодушия или мелкого эгоизма, кажется ему своим. В его сердце живут рядом чувство отчуждённости среди людей и непреодолимая жажда родной души, такой же одинокой, близкой поэту своими грёзами и, может быть, страданиями. И в результате: «в ребячестве моём тоску любови знойной уж стал я понимать душою беспокойной».
Мальчиком десяти лет бабушка повезла на Кавказ, на воды; здесь он встретил девочку лет девяти— и в первый раз у него проснулось необыкновенно глубокое чувство, оставившее память на всю жизнь, но сначала для него неясное и неразгаданное. Два года спустя поэт рассказывает о новом увлечении, посвящает ему стихотворение: к Гению.
Первая любовь неразрывно слилась с подавляющими впечатлениями Кавказа. «Горы кавказские для меня священны», — писал Лермонтов; они объединили всё дорогое, что жило в душе поэта-ребёнка. С осени 1825 года начинаются более или менее постоянные учебные занятия Лермонтова, но выбор учителей (француз Capet и бежавший из Турции, грек) был неудачен. Грек вскоре совсем бросил педагогические занятия и занялся скорняжным (т.е. кожным) промыслом. Француз, очевидно, не внушил Лермонтову особенного интереса к французскому языку и литературе: в ученических тетрадях Лермонтова французские стихотворения очень рано уступают место русским. Тем не менее, имея в Тарханах прекрасную библиотеку, Лермонтов, пристрастившийся к чтению, занимался под руководством учителей самообразованием и овладел не только европейскими языками (английских, немецких и французских писателей он читал в оригиналах), но и прекрасно изучил европейскую культуру в целом и литературу в частности.
Пятнадцатилетним мальчиком он сожалеет, что не слыхал в детстве русских народных сказок: «в них верно больше поэзии, чем во всей французской словесности». Его пленяют загадочные, но мужественные образы отверженных человеческим обществом — «корсаров», «преступников», «пленников», «узников».
Спустя два года после возвращения с Кавказа, бабушка повезла Лермонтова в Москву, где его стали готовить к поступлению в университетский благородный пансион. Учителями его были Зиновьев, преподаватель латинского и русского языка в пансионе, и француз Gondrot, бывший полковник наполеоновской гвардии; его сменил в 1829 году англичанин Виндсон, познакомивший его с английской литературой
В пансионе Лермонтов оставался около двух лет. Здесь, под руководством Мерзлякова и Зиновьева, процветал вкус к литературе: происходили «заседания по словесности», молодые люди пробовали свои силы в самостоятельном творчестве, существовал даже какой-то журнал при главном участии Лермонтова
Поэт горячо принялся за чтение; сначала он поглощён Шиллером, особенно его юношескими трагедиями; затем он принимается за Шекспира, в письме к родственнице «вступается за честь его», цитирует сцены из Гамлета
По-прежнему Лермонтов ищет родную душу, увлекается дружбой то с одним, то с другим товарищем, испытывает разочарования, негодует на легкомыслие и измену друзей. Последнее время его пребывания в пансионе — 1829 — отмечено в произведениях Лермонтова необыкновенно мрачным разочарованием, источником которого была совершенно реальная драма в личной жизни Лермонтова.
Срок воспитания его под руководством бабушки приходил к концу; отец часто навещал сына в пансионе, и отношения его с Елизаветой Алексеевной обострились до крайней степени. Борьба развивалась на глазах Михаила Юрьевича; она подробно изображена в его юношеской драме. Бабушка, ссылаясь на свою одинокую старость, взывая к чувству благодарности внука, отвоевала его у зятя, пригрозив, как и раньше, отписать всё своё движимое и недвижимое имущество в род Столыпиных, если внук, по настоянию отца, уедет от неё. Юрию Петровичу пришлось отступить, хотя отец и сын были привязаны друг к другу и отец, по- видимому, как никто другой понимал, насколько одарен его сын.
К 1829 году относятся первый очерк «Демона» и стихотворение «Монолог», предвещающие «Думу». Поэт отказывается от своих вдохновений, сравнивая свою жизнь с осенним днем и рисует «измученную душу» Демона, живущего без веры, с презрением и равнодушием ко «всему на свете». В «Монологе» изображаются «дети севера», их «пасмурная жизнь», «пустые бури», без «любви и дружбы сладкой». Немного спустя, оплакивая отца, он себя и его называет «жертвами жребия земного»: «ты дал мне жизнь, но счастья не дано!...»
Первая любовь
Весной 1830 года благородный пансион был преобразован в гимназию, и Лермонтов оставил его. Лето он провёл в Середникове, подмосковном поместье брата бабушки, Столыпина. Недалеко жили другие родственники Лермонтова — Верещагины; Александра Верещагина познакомила его со своей подругой, Екатериной Сушковой, также соседкой по имению. Сушкова двумя годами старше Лермонтова, одетая по последней моде, уже побывавшая в Петербурге на великосветских балах. Она была действительно прекрасна - с тонким, одухотворённым лицом, огромными чёрными глазами. Великолепная коса дважды обвивала её голову. Лермонтов пылко увлёкся красавицей, но она считала его ещё мальчиком и относилась к нему свысока. В 1830 году Лермонтов посвятил ей стихотворения: «Весна», «Ночь», «Когда к тебе молвы рассказ...», «Передо мной лежит листок...», «Итак, прощай! Вперёд этот звук...», «Чёрные очи», «Раскаянье».
Осенью 1830 года Сушкова покинула Москву, и Лермонтов увидел её только в 1834 году в Петербурге.
Летом 1831 года Лермонтов гостил в семье Ивановых в селе Никольское - Тимокино на Клязьме, недалеко от Москвы. Здесь Лермонтов увлёкся дочерью скончавшегося в 1816 году московского литератора Ф.Ф. Иванова. Наташа Иванова (она, как и Лермонтов, родилась в 1814 году) отнеслась к молодому поэту с холодом и непониманием. По складу своей души это была обычная светская девушка, кокетливая и себе на уме, поджидающая выгодного жениха. Тем не менее ей льстило, что юноша - поэт пылает к ней такой бурной страстью, посвящает ей стихи, которые и сегодня мучительно читать - столько в них боли, страстных надежд, разочарований. Она то манила, то отталкивала Лермонтова. Он в ослеплении любви не видел душевной пустоты своей возлюбленной.
 Любовь к Н.Ф. Ивановой была одной из главных тем лирики
Лермонтова 1832 годов. Всё, что Лермонтов переживал, так или иначе входило в
его сочинения. И Наташа Иванова вошла не только в его стихи - тем же летом
Лермонтов закончил драму «странный человек», тут в лице Наташи Загорскиной
была изображена Иванова, а главного героя, Арбенина, Лермонтов наделил многими
собственными чертами.
Любовь к Н.Ф. Ивановой была одной из главных тем лирики
Лермонтова 1832 годов. Всё, что Лермонтов переживал, так или иначе входило в
его сочинения. И Наташа Иванова вошла не только в его стихи - тем же летом
Лермонтов закончил драму «странный человек», тут в лице Наташи Загорскиной
была изображена Иванова, а главного героя, Арбенина, Лермонтов наделил многими
собственными чертами.
2 ноября 1831 года Лермонтов встретился с Варварой Александровной Лопухиной, которую знал ещё с 1828 года (она потом надолго уезжала в Тульскую губернию).
4 декабря он был у неё на именинах. Он полюбил её, и все его юношеские увлечения отошли в сторону. Чувство к ней Лермонтова было безотчётно, но истинно, и он сохранил его до самой смерти своей.
Лопухиной Лермонтов посвятил стихотворения: «Оставь напрасные заботы...», «Мы Сведены Судьбой», «Она не гордой красотою...», «K.JI (Подражание Байрону)». Многие другие его стихи последующих лет также несут в себе следы его любви к Лопухиной трагических размышлений о постигшей их обоих жизненной неудаче, это. «Д к вам пишу случайно: право...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Сон», Посвящение к «Демону» 1831 года и посвящение к поэме «Измаил - Бэй».
Историю своих сложных отношений с Лопухиной Лермонтов отчасти изобразил в драме «Два брата», в неоконченном романе «Княжна Литовская» и в «Герое нашего времени» (в «Княжне Мери»), - во всех этих произведениях Лопухина выведена под именем Веры. Их любовь была взаимной. Но позднее между ними возникло непонимание: В.А. Лопухиной почудилось, что она в Лермонтове ошиблась. Она вышла замуж за Н.Ф. Бахметева, но вскоре раскаялась в этом, так как продолжала любить Лермонтова, но поправить, уже ничего было нельзя...
Студенческие годы
С сентября 1830 года Лермонтов числится студентом Московского университета сначала на «нравственно-политическом отделении», потом на «словесном».
Серьёзная умственная жизнь развивалась за стенами университета, в студенческих кружках, но Лермонтову не нравится ни один из них. У него, несомненно, больше наклонности к светскому обществу, чем к отвлечённым товарищеским беседам: он по природе наблюдатель действительной жизни. Давно уже, притом, у него исчезло чувство юной, ничем не омрачённой доверчивости, охладела способность отзываться на чувство дружбы, на малейшие проблески симпатии. Его нравственный мир был другого склада, чем у его товарищей.
Он не менее их уважал университет: «светлый храм науки» он называет «святым местом», описывая отчаянное пренебрежение студентов к жрецам этого храма. Он знает и о философских заносчивых «спорах» молодёжи, но сам не принимает в них участия. Он, вероятно, даже не был знаком с самым горячим спорщиком — знаменитым впоследствии критиком, хотя один из героев его студенческой драмы «Странный человек» носит фамилию Белинский, что косвенно свидетельствует о непростом отношении Лермонтова к идеалам, проповедуемым восторженной молодёжью, среди которой ему пришлось учиться.
Главный герой — Владимир — воплощает самого автора; его устами поэт откровенно сознается в мучительном противоречии, своей натуры. Владимир знает эгоизм и ничтожество людей— и всё-таки не может покинуть их общество: «когда я один, то мне кажется, что никто меня не любит, никто не заботится обо мне, — и это так тяжело!» Ещё важнее драма как выражение общественных идей поэта Мужик рассказывает Владимиру и его другу, Белинскому — противникам крепостного права, — о жестокостях помещицы и о других крестьянских невзгодах. Рассказ приводит Владимира в гнев, вырывает у него крик: «О мое отечество! мое отечество!», — а Белинского заставляет практически помочь мужикам.
Для поэтической деятельности Лермонтова университетские годы оказались в высшей степени плодотворны. Талант его зрел быстро, духовный мир определялся резко. Лермонтов усердно посещает московские салоны, балы, маскарады. Он знает действительную цену этих развлечений, но умеет быть весёлым, разделять удовольствия других. Поверхностным наблюдателям казалась совершенно неестественной бурная и гордая поэзия Лермонтова при его светских талантах.
Они готовы были демонизм и разочарование его счесть «драпировкой», «весёлый, непринуждённый вид» признать истинно лермонтовским свойством, а жгучую «тоску» и «злость» его стихов — притворством и условным поэтическим маскарадом. Но именно поэзия и была искренним отголоском лермонтовских настроений. «Меня спасало вдохновенье от мелочных сует», — писал он и отдавался творчеству, как единственному чистому и высокому наслаждению. «Свет», по его мнению, всё нивелирует и опошливает, сглаживает личные оттенки в характерах людей, вытравливает всякую оригинальность, приводит всех к одному уровню одушевлённого манекена. Принизив человека, «свет» приучает его быть счастливым именно в состоянии безличия и приниженности, наполняет его чувством самодовольства, убивает всякую возможность нравственного развития.
Лермонтов боится сам подвергнуться такой участи; более чем когда- либо он прячет свои задушевные думы от людей, вооружается насмешкой и презрением, подчас разыгрывает роль доброго малого или отчаянного искателя светских приключений. В уединении ему припоминаются кавказские впечатления — могучие и благородные, ни единой чертой непохожие на мелочи и немощи утонченного общества.
Он повторяет мечты поэтов прошлого века о естественном состоянии, свободном от «приличья цепей», от золота и почестей, от взаимной вражды людей. Он не может допустить, чтобы в нашу душу были вложены «неисполнимые желанья», чтобы мы тщетно искали «в себе и в мире совершенство». Его настроение — разочарование деятельных нравственных сил, разочарование в отрицательных явлениях общества, во имя очарования положительными задачами человеческого духа.
Эти мотивы вполне определились во время пребывания Лермонтова в московском университете, о котором он именно потому и сохранил память, как о «святом месте».
Лермонтов не пробыл в университете и двух лег, выданное ему свидетельство говорит об увольнении «по прошению» — но прошение, по преданию, было вынуждено студенческой историей с одним из наименее почтенных профессоров Маловым. С 18 июня 1832 года Лермонтов более не числился студентом.
Школа прапорщиков
 Он
уехал в Санкт-Петербург, с намерением снова поступить в университет, но ему
отказались засчитать два года, проведенных в Московском университете, предложив
поступить снова на 1 курс. Лермонтова такое долгое студенчество не устраивало и
он под влиянием петербургских родственников, прежде всего Монго-Столыпина,
наперекор собственным планам, поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков. Эта
перемена карьеры отвечала и желаньям бабушки.
Он
уехал в Санкт-Петербург, с намерением снова поступить в университет, но ему
отказались засчитать два года, проведенных в Московском университете, предложив
поступить снова на 1 курс. Лермонтова такое долгое студенчество не устраивало и
он под влиянием петербургских родственников, прежде всего Монго-Столыпина,
наперекор собственным планам, поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков. Эта
перемена карьеры отвечала и желаньям бабушки.
Лермонтов оставался в школе два «злополучных года», как он сам выражается. Об умственном развитии учеников никто не думал; им «не позволялось читать книг чисто литературного содержания». В школе издавался журнал, но характер его вполне очевиден из поэм Лермонтова, вошедших в этот орган: «Уланша», «Петергофский праздник»...
Накануне вступления в школу Лермонтов напасал стихотворение «Парус»; «мятежный» парус, «просящий бури» в минуты невозмутимого покоя— это всё та же с детства неугомонная душа поэта. «Искал он в людях совершенства, а сам — сам не был лучше их», — говорит он устами героя поэмы «Ангел смерти», написанной ещё в Москве.
В лермонтоведении существует мнение о том, что за два юнкерских года ничего существенного Лермонтов не создал. Действительно, в томике стихотворений за эта годы мы найдем только несколько «Юнкерских молитв». Но не нужно забывать о том, что Лермонтов так мало внимания уделяет поэзии не потому, что полностью погрузился в юнкерский разгул, а потому, что он работает в другом жанре: Лермонтов пишет исторический роман на тему пугачевщины, который останется незаконченным и войдет в историю литературы как роман «Вадим». Кроме этого, он пишет несколько поэм и всё больше интересуется драмой. Жизнь, которую он ведет, и которая вызывает искреннее опасение у его московских друзей, дает ему возможность изучить жизнь в её полноте. И это знание жизни, блестящее знание психологии людей, которым он овладевает в пору своего юнкерства, отразится в его лучших произведениях.
Лермонтов ни в чём не отставал от товарищей, являлся первым участником во всех похождениях — но и здесь избранная натура сказывалась немедленно после самого, по-видимому, безотчётного веселья. Как в московском обществе, так и в юнкерских пирушках Лермонтов умел сберечь свою «лучшую часть», свои творческие силы; в его письмах слышится иногда горькое сожаление о былых мечтаниях, жестокое самобичевание за потребность «чувственного наслаждения». Всем, кто верил в дарование поэта, становилось страшно за его будущее. Верещагин, неизменный друг Лермонтова, во имя его таланта заклинал его «твердо держаться своей дороги». Лермонтов описывал забавы юнкеров, в том числе эротические, в своих стихах. Эти юношеские стихи, содержавшие и нецензурные слова, снискали Лермонтову первую поэтическую славу.
В 1832 году в манеже Школы гвардейских подпрапорщиков лошадь ударила Лермонтова в правую ногу, расшибив её до кости. Лермонтов лежал в лазарете, его лечил известный врач Н. Ф. Арендт. Позже поэт был выписан из лазарета, но врач навещал его в доме Е. А. Арсеньевой.
В гвардии
По выходе из школы корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов живёт по-прежнему среди увлечений и упреков совести, среди страстных порывов и сомнений, граничащих с отчаянием. О них он пишет к своему другу Марии Лопухиной, но напрягает все силы, чтобы его товарищи и «свет» не заподозрили его гамлетовских настроений.
Люди, близко знающие его, вроде Верещагиной, были уверены в его «добром характере» и «любящем сердце»; но Лермонтов считал для себя унизительным явиться добрым и любящим перед «надменным шутом» — «светом». Напротив, он хочет показаться беспощадным на словах, жестоким в поступках, во что бы то ни стало прослыть неумолимым тираном женских сердец. Тогда-то пришло время расплаты для Сушковой.
Лермонтову-гусару, наследнику крупного состояния, ничего не стоило заполонить сердце когда-то насмешливой красавицы, расстроить её брак с Лопухиным. Потом началось отступление: Лермонтов принял такую форму обращения к Сушковой, что она немедленно была скомпрометирована в глазах «света», попав в положение смешной героини неудавшегося романа. Лермонтову оставалось окончательно порвать с Сушковой — и он написал на её имя анонимное письмо с предупреждением против себя самого, направил письмо в руки родственников несчастной девицы и, по его словам, произвёл «гром и молнию».
Потом, при встрече с жертвой, он разыграл роль изумлённого, огорчённого рыцаря, а в последнем объяснении прямо заявил, что он её не любит и, кажется, никогда не любил. Все это, кроме сцены разлуки, рассказано самим Лермонтовым в письме к Верещагиной, причём он видит лишь «весёлую сторону истории». Единственный раз Лермонтов позволит себе не сочинить роман, а «прожить его» в реальной жизни, разыграв историю по нотам, как это будет в недалеком будущем делать его Печорин. Такой опыт Лермонтову был необходим, как писателю, исследователю женских сердец, ведь не случайно женские образы, выписанные им в романе «Герой нашего времени», будут и современников, и читателей последующих веков поражать своей достоверностью.
Совершенно равнодушный к службе, неистощимый в проказах, Лермонтов пишет застольные песни самого непринуждённого жанра — ив то же время такие произведения, как «Я, матерь Божия, ныне с молитвою»...
До сих пор поэтический талант Лермонтова был известен лишь в офицерских и светских кружках. Первое его произведение, появившееся в печати — «Хаджи Абрек» — попало в «Библиотеку для Чтения» без его ведома, и после этого невольного, но удачного дебюта Лермонтов долго не хотел печатать своих стихов. Смерть Пушкина явила Лермонтова русской публике во всей силе поэтического таланта Лермонтов был болен, когда совершилось страшное событие.
В конце января тот же врач Н. А. Арендт, побывав у заболевшего Лермонтова, рассказал ему подробности дуэли и смерти Пушкина.
Невольное негодование охватило Лермонтова, и он «излил горечь сердечную на бумагу». Стихотворение «Смерть Поэта» оканчивалось сначала словами: «И на устах его печать». Оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю в высшем обществе, новые похвалы Дантесу; наконец, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, стал в глаза порицать его горячность по отношению к такому джентльмену, как Дантес. Лермонтов вышел из себя, приказал гостю выйти вон и в порыве страстного гнева набросал заключительные 16 строк «А вы, надменные потомки...
Последовал арест и судебное разбирательство, за которым наблюдал сам император; за Лермонтова вступились пушкинские друзья, прежде всего Жуковский, близкий императорской семье, кроме этого бабушка, имевшая светские связи, сделала все, чтобы смягчить участь единственного внука. Некоторое время спустя корнет Лермонтов был переведён прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Поэт отправлялся в изгнание, сопровождаемый общим вниманием: здесь были и страстное сочувствие, и затаённая вражда.
Глава II
На Кавказе
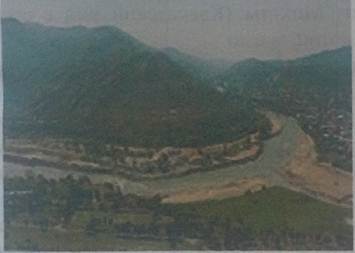 Первое
пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько месяцев. Благодаря
хлопотам бабушки он был сначала переведён в гродненский гусарский полк,
расположенный в Новгородской губернии, а потом— в апреле 1838 года — возвращён
в лейб-гусарский. Несмотря на кратковременную службу в Кавказских горах,
Лермонтов успел сильно измениться в нравственном отношении.
Первое
пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько месяцев. Благодаря
хлопотам бабушки он был сначала переведён в гродненский гусарский полк,
расположенный в Новгородской губернии, а потом— в апреле 1838 года — возвращён
в лейб-гусарский. Несмотря на кратковременную службу в Кавказских горах,
Лермонтов успел сильно измениться в нравственном отношении.
 Природа
приковала всё его внимание; он готов «целую жизнь» сидеть и любоваться её
красотой; общество будто утратило для него привлекательность, юношеская
весёлость исчезла и даже светские дамы замечали «чёрную меланхолию» на его
лице. Инстинкт поэта-психолога влёк его, однако, в среду людей. Его здесь мало
ценили, ещё меньше понимали, но горечь и злость закипали в нём, и на бумагу
ложились новые пламенные речи, в воображении складывались бессмертные образы.
Природа
приковала всё его внимание; он готов «целую жизнь» сидеть и любоваться её
красотой; общество будто утратило для него привлекательность, юношеская
весёлость исчезла и даже светские дамы замечали «чёрную меланхолию» на его
лице. Инстинкт поэта-психолога влёк его, однако, в среду людей. Его здесь мало
ценили, ещё меньше понимали, но горечь и злость закипали в нём, и на бумагу
ложились новые пламенные речи, в воображении складывались бессмертные образы.
Лермонтов возвращается в петербургский «свет», снова играет роль льва, тем более, что за ним теперь ухаживают все любительницы знаменитостей и героев; но одновременно он обдумывает могучий образ, ещё в юности волновавший его воображение.
Кавказ обновил давнишние грёзы; создаются поэмы «Демон» и «Мцыри».
"Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры..."
И та, и другая поэма задуманы были давно. О «Демоне» поэт думал ещё в Москве, до поступления в университет, позже несколько раз начинал и переделывал поэму; зарождение «Мцыри», несомненно, скрывается в юношеской заметке Лермонтова, тоже из московского периода: «написать записки молодого монаха: 17 лет. С детства он в монастыре, кроме священных книг не читал... Страстная душа томится».
В основе «Демона» лежит сознание одиночества среди всего мироздания. Черты демонизма в творчестве Лермонтова: гордая душа, отчуждение от мира и небеса, презрение к мелким страстям и малодушию. Демону мир тесен и жалок; для Мцыри — мир ненавистен, потому что в нём нет воли, нет воплощения идеалов, воспитанных страстным воображением сына природы, нет исхода могучему пламени, с юных лет живущему в груди. «Мцыри» и «Демон» дополняют друг друга.
Разница между ними — не психологическая, а внешняя, историческая. Демон богат опытом, он целые века наблюдал человечество и научился презирать людей сознательно и равнодушно. Мцыри гибнет в цветущей молодости, в первом порыве к воле и счастью; но этот порыв до такой степени решительный могуч, что юный узник успевает подняться до идеальной высоты демонизма.
Несколько лет томительного рабства и одиночества, потом несколько часов восхищения свободой и величием природы подавили в нём голос человеческой слабости. Демоническое миросозерцание, стройное и логическое в речах Демона, у Мцыри — крик преждевременной агонии.
Демонизм — общее поэтическое настроение, слагающееся из гнева и презрения; чем зрелее становится талант поэта, тем реальнее выражается это настроение и аккорд разлагается на более частные, но зато и более определённые мотивы.
Поэт быстро шёл к ясному реальному творчеству, задатки которого коренились в его поэтической природе; но не без влияния оставались и столкновения со всем окружающим. Именно они должны были намечать более определённые цели для гнева и сатиры поэта и постепенно превращать его в живописца общественных нравов.
Первая дуэль.
Вернувшись с первой ссылки на Кавказ, Лермонтов привёз массу новых поэтических произведений. После «Смерти поэта» он стал одним из самых популярных писателей в России, да и в свете его теперь воспринимают совсем иначе. Лермонтов вошёл в круг пушкинских друзей и, наконец-то,начинает печататься, почти каждый номер журнала Краевского «Отечественные записки» выходит с новыми стихотворениями поэта
Но роль «льва» в петербургском свете закончилась для Лермонтова крупным недоразумением: ухаживая за княгиней Щербатовой— музой стихотворения «На светские цепи», — он встретил соперника в лице сына французского посланника Эрнеста де Баранта.
В результате — дуэль, окончившаяся благополучно, но для Лермонтова повлекшая арест на гауптвахте, потом перевод в Тенгинский пехотный полк на Кавказе.
Когда он познакомился с поэтом, достоверно неизвестно: по словам Панаева — в Санкт-Петербурге, у Краевского, после возвращения Лермонтова с Кавказа; по словам товарища Лермонтова по университетскому пансиону И. Сатина— в Пятигорске, летом 1837 года Вполне достоверно одно, что впечатление Белинского от первого знакомства осталось неблагоприятное. Лермонтов по привычке уклонялся от серьёзного разговора, сыпал шутками и остротами по поводу самых важных тем— и Белинский, по его словам, не раскусил Лермонтова. Свидание на гауптвахте окончилось совершенно иначе: разговор зашёл о английской литературе, о Вальтере Скотте, перешёл на русскую литературу, а потом и на всю русскую жизнь. Белинский пришёл в восторг и от личности, и от художественных воззрений Лермонтова. Он увидел поэта «самим собой»; «в словах его было столько истины, глубины и простоты!».
Вторая ссылка на Кавказ кардинальным образом отличалась от того, что ждала его на Кавказе несколькими годами раньше: тогда это была приятная прогулка, позволившая Лермонтову знакомиться с восточными традициями, фольклором, много путешествовать.
Теперь же его прибытие сопровождалось личным приказом императора не отпускать поэта с первой линии и задействовать его в военных операциях. Прибыв на Кавказ, Лермонтов окунулся в боевую жизнь и на первых же порах отличился «мужеством и хладнокровием»; так выражалось официальное донесение. В стихотворении «Валерик» и в письме к Лопухину Лермонтов ни слова не говорит о своих подвигах...
Тайные думы Лермонтова давно уже были отданы роману. Он был задуман ещё в первое пребывание на Кавказе; княжна Мери, Грушницкий и доктор Вернер, были списаны с оригиналов ещё в 1837 году. Последующая обработка, вероятно, сосредоточивалась преимущественно на личности главного героя, характеристика которого была связана для поэта с делом самопознания и самокритики...
Сначала роман «Герой нашего времени» существовал в виде отдельных глав, напечатанных как самостоятельные повести в журнале «Отечественные записки». Но вскоре вышел роман, дополненный новыми главами и получивший таким образом завершенность.
Первое издание романа было быстро раскуплено и почти фазу появилась критика на него. Почти все, кроме Белинского, сошлись во мнении о том, что Лермонтов в образе Печорина изобразил самого себя и что такой герой не может являться героем своего времени. Поэтому второе издание, появившееся почти сразу вослед первому, содержало предисловие автора, в котором он отвечал на враждебную критику. В «Предисловии» Лермонтов провел черту между собою и своим героем и обозначил основную идею своего романа.
В 1840 году вышло единственное прижизненное издание стихотворений Лермонтова, в которое он включил около 28 стихотворений
Вторая дуэль. Смерть.
Зимой 1841 года, оказавшись в отпуске в Петербурге, Лермонтов пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе, но не решился сделать это, так как бабушка была против, она надеялась, что ей внук сможет сделать себе карьеру и не разделяла его увлечение литературой. Поэтому весной 1841 года он был вынужден возвратиться в свой полк на Кавказ. Уезжал из Петербурга он с тяжелыми предчувствиями — сначала в Ставрополь, где стоял Тенгинский полк, потом в Пятигорск. В Пятигорске произошла его ссора майором в отставке Мартыновым Николаем. Впервые Лермонтов познакомился с Мартыновым в Школе гвардейских подпрапорщиков, которую Мартынов закончил на год позже Лермонтова. В 1837 году Лермонтов, переведенный из гвардии в Нижегородский полк за стихи "На смерть поэта", и Мартынов, отправляющийся на Кавказ, две недели провели в Москве, часто завтракая вместе у Яра Лермонтов посещал московский дом родителей Мартынова. Впоследствии современники считали, что прототипом княжны Мери была Наталья Соломоновна - сестра Мартынова.
Как писал в своих "Записках декабриста" Н.И. Лорер: "Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ в линейных казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов, по складу ума своего, был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и, когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам .., шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит".
Дуэль произошла 15 июля. Лермонтов стрелял в сторону, Мартынов — прямо в грудь поэту.
Князь А. И. Васильчиков, очевидец событий и секундант Мартынова, рассказал историю дуэли с явным намерением оправдать Мартынова, который был жив во время появления рассказа в печати. Основная мысль автора «в Лермонтове было два человека один — добродушный, для небольшого кружка ближайших друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение; другой — заносчивый и задорный, для всех прочих знакомых». Мартынов, следовательно, был сначала жертвой, а потом должен был явиться мстителем.
Несомненно, однако, что Лермонтов до последней минуты сохранял добродушное настроение, а его соперник пылал злобным чувством. При всех смягчающих обстоятельствах о Мартынове ещё с большим правом, чем о Дантесе, можно повторить слова поэта «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку подымал»...
Похороны Лермонтова не могли быть совершены по церковному обряду, несмотря на все хлопоты друзей, официальное известие об его смерти гласило: «15-го июля, около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов». По словам кн. Васильчикова в Петербурге, в высшем обществе, смерть поэта встретили отзывом: «туда ему и дорога»... В своих воспоминаниях П.П.Вяземский, отметил, что Николай I отозвался об этом, сказав «Собаке— собачья смерть».
Спустя несколько месяцев Арсеньева перевезла прах внука в Тарханы.
В 1889 году, по всероссийской подписке, поэту воздвигнут памятник в Пятигорске.
Глава III
Лермонтов - Художник
В истории культуры известно немало поэтов и писателей, которые одновременно ярко проявили себя в сфере изобразительного искусства. Лермонтов, по свидетельству его родственника АП. Шан-Гирея, начал рисовать едва ли не раньше, чем писать стихи. Рисовал всю свою недолгую жизнь, и его художественное наследие содержит произведения различных жанров: пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены, портретные миниатюры. Конечно, изобразительное творчество Лермонтова уступает литературному. Тем не менее одаренность писателя сказалась и здесь.
 Традиции
дворянского воспитания предполагали наряду с уроками фехтования, музыки,
иностранных языков с юных лет занятия живописью и рисунком. Расцвет альбомной
культуры связан с повсеместным умением рисовать, и лучшие альбомные рисунки
того времени отличаются уверенным владением линией, способностью мгновенным
очерком создать образ, точностью в деталях, композиционным чутьем. Однако из
множества грамотно рисующих профессионалами становились единицы: для сословия, к
которому принадлежал Лермонтов, более характерен тип художника- дилетанта,
несвязанного академической выучкой и необходимостью продавать работы. Фиксируя
на бумаге свои впечатления и душевное состояние, художник-дилетант постоянно
вел своего рода лирический дневник, поскольку романтическое мироощущение
требовало обязательного преобразования повседневных чувств из плана обыденного
в чрезвычайный.
Традиции
дворянского воспитания предполагали наряду с уроками фехтования, музыки,
иностранных языков с юных лет занятия живописью и рисунком. Расцвет альбомной
культуры связан с повсеместным умением рисовать, и лучшие альбомные рисунки
того времени отличаются уверенным владением линией, способностью мгновенным
очерком создать образ, точностью в деталях, композиционным чутьем. Однако из
множества грамотно рисующих профессионалами становились единицы: для сословия, к
которому принадлежал Лермонтов, более характерен тип художника- дилетанта,
несвязанного академической выучкой и необходимостью продавать работы. Фиксируя
на бумаге свои впечатления и душевное состояние, художник-дилетант постоянно
вел своего рода лирический дневник, поскольку романтическое мироощущение
требовало обязательного преобразования повседневных чувств из плана обыденного
в чрезвычайный.
В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, образующие "испанский цикл".
 Обращение
к Испании, традиционное для тогдашнего искусства, связано с драматической
историей испанской революции но в лермонтовском увлечении присутствуют и
личные мотивы: в семье бытовало предание о происхождении рода от испанского
герцога Лермы.
Обращение
к Испании, традиционное для тогдашнего искусства, связано с драматической
историей испанской революции но в лермонтовском увлечении присутствуют и
личные мотивы: в семье бытовало предание о происхождении рода от испанского
герцога Лермы.
Стремление к свободе - главному романтическому идеалу - молодой поэт выражает на испанском материале. В 1830 году была создана трагедия "Испанцы". Акварели и рисунки "Испанец с кинжалом", "Испанец", "Испанец с фонарем и католический монах", "Испанец в белом кружевном воротнике", портретная миниатюра Эмилии - героини "Испанцев" представляют собой зрительные парафразы трагедии.
 Самое
значительное в этом цикле -
"Портрет герцога Лермы" (1832-1833), первое известное живописное
произведение Лермонтова. Своему легендарному предку художник, придал автопортретные черты. Резкий боковой свет
подчеркивает напряженную скорбь в темных глазах, в складке плотно сомкнутого
рта.
Самое
значительное в этом цикле -
"Портрет герцога Лермы" (1832-1833), первое известное живописное
произведение Лермонтова. Своему легендарному предку художник, придал автопортретные черты. Резкий боковой свет
подчеркивает напряженную скорбь в темных глазах, в складке плотно сомкнутого
рта.
Испанская страсть в соответствии с романтическим каноном потаенная, сдерживаемая усилием воли, подобно тому, как скрывается тело под глухим покровом одежды.
Условно-романтическое
видение природы, истории и людей приобретает в ранних работах Лермонтова, будь
то пейзажные акварели "Белая береза" и "Парус" (последняя
предваряет знаменитое стихотворение) или "Древняя рать", где войско
русское, а горы кавказские. Более живыми и непосредственными являются рисунки
из так называемой "юнкерской тетради", созданные во время пребывания
поэта в юнкерской школе (1832- 1834). » Большинство
портретных - зарисовок и жанровых сценок сделано с натуры; романтическая
интонация не подавляет, но, напротив, усиливает остро индивидуальную
выразительность рисунка Та же экспрессия выразительность - присутствует в
кавказских видах и изображениях всадников-черкесов, в иллюстрациях к повести А.
Марлинского "Амалат- бек". Характерно, что в это время - по
окончании юнкерской школы - Лермонтов берет уроки живописи у художника  П.Е.Заболотского.
П.Е.Заболотского.
Поворотным пунктом биографии Лермонтова стал 1837 год - гибель Пушкина. За знаменитым стихотворением "Смерть поэта" последовала ссылка на Кавказ - прежде романтическое восприятие Кавказа было проверено и дополнено фактами собственной судьбы. На Кавказе наиболее полно раскрылся творческий потенциал Лермонтова - и поэта, и художника. Наиболее интересны пейзажи, выполненные маслом, -
"Вид Пятигорска", "Кавказский вид с саклей" ("Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты”)
"Вид горы Крестовой", "Вид Тифлиса", "Окрестности селения Карагач" ("Кавказский вид с верблюдами") и другие (все 1837- 1838). Пейзажи эти панорамны: горизонт занижен, пространство строится ритмично

развертывающимися в глубину перспективными планами; все они конструктивно упорядочены, причем в качестве созидающего и организующего начала выступает свет. Воздушной среде, нематериальной и переменчивой, свет сообщает богатство тонов, оттенков и цветовых нюансов.
Любая
кавказская панорама Лермонтова это как бы малый фрагмент Вселенной, тем не
менее выразивший всю бесконечность мироздания. Руины, монастыри, храмы,
лепящиеся на склонах гор, представляются зрителю естественными
вкраплениями в природный ландшафт. Вписанные в каждый пейзаж фигурки людей -
всадники, погонщики и верблюды, грузинки, набирающие в Куре воду, - подчинены
изначально заданному ритму; их малый масштаб подчеркивает космическую
безмерность целого. Но несмотря на романтическую интонацию, лермонтовские
панорамы, как показал исследователь его творчества Ираклий Андроников, во
многом совпадают с реальной топографией изображаемых мест.






 В последние годы жизни Лермонтов немало времени уделял портрету,
изображая друзей и знакомых. Сохранились живописный портрет А.НМуравьева,
акварельные портреты А. АКикина и А А. Столыпина (Монго) в виде курда, два
прекрасных портрета неизвестных (по поводу одного из них существует гипотеза,
что здесь изображен поэт-декабрист А.И.Одоевский).
В последние годы жизни Лермонтов немало времени уделял портрету,
изображая друзей и знакомых. Сохранились живописный портрет А.НМуравьева,
акварельные портреты А. АКикина и А А. Столыпина (Монго) в виде курда, два
прекрасных портрета неизвестных (по поводу одного из них существует гипотеза,
что здесь изображен поэт-декабрист А.И.Одоевский).
Большое значение для лермонтовской иконографии имеет романтический автопортрет 1837 года, где художник изобразил себя на фоне кавказских гор в облике поэта и воина. Лермонтов - боевой офицер проявил личную храбрость, участвуя в военной кампании против горцев в 1840- 1841 годах. Одну из битв этой кампании он запечатлел в замечательном рисунке "Эпизод из сражения при Валерике", раскрашенном позднее его другом, художником Г.Г.Гагариным. Трагическая динамика боя складывается из личных драм, переживаемых по ходу сражения его участниками. Тему "бедствий войны" продолжает акварель, контрастирующая своим изысканным колоритом с той траурной церемонией, которую изображает, - ‘"При Валерике. Похороны убитых". Вообще рисунки и акварели Лермонтова в Наибольшей мере выражают романтическую сущность его искусства. Если в картинах романтизм проявился в сюжетном строе, в ориентальных мотивах, то графика запечатлела самый темп и напряженность романтического мирочувствия, романтического переживания натуры. Беглые зарисовки полны динамики: линия двоится и срывается в штрих, спеша зафиксировать увиденное - всадников (карандаш, 1832-1834), черкеса, стреляющего на скаку (карандаш, 1832-183), кавалерийскую схватку (сепия, 1830-1832).Лермонтов, подобно Байрону, воплотил в себе идеал романтической личности - трагической и гениальной. Трудно сказать, в каком направлении развивалось бы художественное творчество поэта, не оборви его жизнь 15 июля 1841 года дуэльный выстрел у подножия горы Машук. Конечно, в сравнении с литературными произведениями, изобразительные опыты Лермонтова более отвечают привычному романтическому канону. Однако в поздних вещах следы его мятежного гения проявляются все чаще. Возможно, и здесь Лермонтов был на пороге замечательных открытий.
Памяти Лермонтова.

· Лермонтовские улица, площадь и проспект в Москве; проспект в Санкт- Петербурге
· Имя Лермонтова носят сотни улиц в населённых пунктах России, СНГ и других странах мира, например, в Баку, Риге и Праге.
· Именем М. Ю. Лермонтова назван Государственный Академический Русский Театр Драмы в Алма-Ате.
· Город Лермонтов в Ставропольском крае
· Сёла Лермонтове в Краснодарском крае и Пензенской области
· Памятник перед зданием Николаевского кавалерийского училища (по адресу Лермонтовский проспект, 54).
· Памятники в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Пятигорске, Ставрополе и других городах России.
· В честь Лермонтова названа Малая планета 2222 Lermontov.
· В честь Лермонтова назван Кратер на Меркурии.
· В честь Лермонтова назван Мыс Лермонтова в Крыму.
Давайте поговорим
1. Чем труден был жизненный путь Лермонтова?
2. Каким был Лермонтов в кругу друзей и в духовно чуждой ему среде?
3. В каких учебных заведениях учился М.Ю. Лермонтов?
4. В какой чин был произведён М.Ю. Лермонтов после окончания Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров?
5. За что был сослан М.Ю. Лермонтов в ссылку на Кавказ в первый раз?
6. За что был сослан М.Ю. Лермонтов в ссылку на Кавказ во второй раз?
7. К кому М.Ю. Лермонтов питал самые глубокие чувства до конца своей жизни?
8. Расскажите о последней дуэли М.Ю. Лермонтова.
9. В чём сходство судьбы Лермонтова с судьбой Пушкина? Чем вы объединяете это сходство?
10. Какие произведения Лермонтова вы читали?
Глава IV
В целом лирика Лермонтова проникнута скорбью и как будто звучит жалобой на жизнь. Но настоящий поэт говорит в стихах не о своем личном “я”, а о человеке своего времени, об окружающей его действительности.
Лермонтов говорит о своем времени и мрачной, трудной эпохе 30-х годов XIX века. И дело не в самих жалобах, а в том, что стоит за ними, чем они продиктованы. В юношеском стихотворении «Слава» он говорит; « К чему ищу так славы я?».
Известно в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она бессильная страдает,
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречает.
Вот настоящая, ясно выраженная основа жалоб Лермонтова на жизнь, на одиночество, вот основа его негодования, ненависти и презрения. Лермонтов жаловался на жизнь и на свое поколение не потому, что был угрюм и нелюдим, а потому, что был человеком больших требований, больших идеалов и стремлений.
Поэтика Лермонтова утверждала и закрепляла великую идею: поэзия есть оружие битвы. В стихотворении «Смерть Поэта» слышен и стон человека от «рабства и цепей», и властный призыв к борьбе с палачами свободы, гения, славы, и пророческое предсказание черных дней для жадной толпы, стоящей у трона. О трагедии Пушкина он говорит как о своей личной трагедии, и одновременно как о трагедии эпохи мира Он с тревогой видел, как торжествующая пошлость в Европе и России атакует поэзию, осуждает гения, попирает героя, втаптывает в грязь достоинство человека Все это и внесло в стихотворение «Смерть поэта» поэтику битвы , и облик Пушкина наряду с чисто «поэтическими» определениями («поэт», «певец») дорисовывается чертами, характеризующими поэта как воина. Отсюда идет повторенное «погиб поэт» (не «умер», не «скончался»- погиб), отсюда идет и «пал»- так пишут о воинах, погибших на поле брани.
Обвинение против света и Дантеса переросло в обвинение против правительства, против социального строя в целом.
Вы, жадною толпой стоящие у трона
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда-все молчи...
стихотворение «смерть поэта»
является идеино-поэтическим
центром всего творчества Лермонтова.
Смерть Поэта
(отрывок)
Погиб поэт! - невольник чести-
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!...
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
И он убит - и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы,жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда-все молчи!...
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет,
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью,
Поэта праведную кровь!
Подумаем над стихотворением
1. Перечитывая стихотворение М.Ю. Лермонтова проследите, как меняются его интонация и накал выраженных чувств.
2. Кто, по мнению Лермонтова, истинные убийцы Пушкина?
3. Как вы думаете, почему Лермонтов пишет о смерти Пушкина, как о гибели бойца? Найдите эти строки и прочитайте.
4. Прочитайте выразительно стихотворение, выражая многообразие чувств и переживаний поэта
Любовь, по мнению Лермонтова, - чувство первичное, рождающееся с человеком, несоотносимое и несоизмеримое. При такой силе и напряженности чувства любовь поэта была легко уязвимой и опасно ранимой. Эта незащищенность сердца от ранения, - причем самое легкое ранение превращается в смертельную рану, - составляет существенную черту трагедии лермонтовского героя. Такая любовь не могла не принести страданий, и когда поэт говорил «люблю», то это слово означало «страдаю». Его трагедия состояла в том что он искал и действительного, и земного, и человеческого счастья. Искал, не находил, страдал.
Нищий
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Подумаем над стихотворением
1. В исследовании В. Архипова стихотворения «НИЩИЙ» читаем: «Нет, это не стихи о помощи голодающим. Они вызывают другие мысли, другие чувства » Какие чувства и какие раздумья о жизни вызывает у вас это стихотворение?
2. Перечитайте воспоминания Е.А.Сушковой о встрече с нищим.
3. О стихотворении «Нищий» существуют разные мнения. Первое: «здесь разыгралось чудовищное глумление над голодным умирающим человеком». Второе: «эпизод с нищим послужил основой для изображения жестокости и равнодушия Сушковой к влюбленному в нее Лермонтову». Какое из приведенных высказываний, по-вашему, более отвечает его содержанию? Обоснуйте свое мнение.
******
Тема Востока занимает одно из важных мест в творчестве Лермонтова.
Тифлис поразил его. Ему говорили, что это совершенная Азия, дикая страна Азия-то Азия, но, пожалуй, поинтересней Европы. Какая страна и замечательная культура, какая архитектура, какая живопись, какие люди! Что стоит по сравнению с этим вся эта знаменитая европейская цивилизация! Надо присмотреться к этому Востоку, надо изучить его. Здесь люди иначе думают, иначе живут, иначе любят. Здесь не говорят об истории, она в каждом камне.
Вот бы попасть в Мекку, в Персию! Эта мысль стала его преследовать. Пробраться через границу и начать новую жизнь. Стихотворение «Три пальмы» написано Лермонтовым-человеком, который никогда не был в Аравийской пустыне, но описательные подробности свидетельствуют о другом: наводят на мысль, что он не только был зрителем, но и участником описываемой картины.
Три пальмы
(отрывок)
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Ещё не склонялся под кущей зелёной,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»
И только замолкли - в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шёл, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твёрдых горбов
Узорные полы походных шатров;
Вот к пальмам подходит, шумя караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный.
Подумаем над стихотворением
1. Есть мнение, что это стихотворение Лермонтов написал под впечатлением стихотворения Пушкина «Подражания Корану», так как между ними есть сходство. Прочитайте оба стихотворения и выскажите свое мнение.
2. Прочитайте стихотворение, придумайте небольшой рассказ, в котором бы участь трех пальм будет иной.
3. Как вы думаете, возможна ли данная версия гибели трех пальм в современной Аравии?
******
Среди произведений последних дней «Родина» - стихотворение, которым Лермонтов завершает свое творчество и прощается с Россией. Его исповедь, объяснение в любви отчизне начинается словами, в которых и пламенная любовь исстрадавшегося сердца, и трагедия этой любви:«Люблю отчизну я, но странною любовью!».
Не победит ее рассудок мой.
«Странная любовь-любовь, недовольная окружающим и требующая изменения жизни Родины». «Не победит ее рассудок мой»,- говорит о том, что патриотический инстинкт Лермонтова все время находился в борении с рассудком, заставлявшим посылать проклятия николаевской России. Сложен исход борьбы «любви» и «рассудка». Борьба носила внешний, временный характер: они еще не узнали друг друга, не ведали того, что и в «рассудке», борющемся с «любовью», жила она же- «святая и разумная любовь к родине», что и будет развернуто в последующих стихах. Поэт говорит, что у него «не шевелит отрадного мечтанья» ничто из того, чем восторгается«толпа», «свет». И прежде всего Лермонтов скажет о «славе, купленной кровью» - она не радует поэта.
Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю - за что, не знаю сам-
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Подумаем над стихотворением
1. Какие обстоятельства заставили Лермонтова изменить свое отношение к родине? Почему свою любовь к отчизне Лермонтов называет странной?
2. Какие особенности родной природы замечает поэт, и как помогают они увидеть родину его глазами, проникнуться его чувствами?
3. Объясните, как вы понимаете строки: дрожащие огни печальных деревень...
4. Что вызывает у Лермонтова добрые, светлые чувства? На какие детали крестьянского быта он обращает внимание?
Герой нашего времени
Лермонтов начал писать роман в 1838 году. Через два года «Герой нашего времени» вышел отдельным изданием.
Роман состоит из пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Каждая повесть представляет собой самостоятельное художественное произведение и в то же время является частью романа. Повести объединены образом Печорина Этот герой занимает центральное место. Вокруг него сгруппированы все основные персонажи произведения.
События, связанные с жизнью Печорина, развиваются на Кавказе. Место действия выбрано автором неслучайно. На Кавказ ссылались критически мыслящие, неугодные правительству люди. Печорин принадлежит к их числу. В тревожных условиях, вызванных войной с горцами, всесторонне раскрывается деятельная натура героя, незнающего покоя. Печорин сталкивается с контрабандистами, ведёт скрытую борьбу с пятигорским «водяным обществом», ищет приключений в отдалённой крепости, в казачьей станице и в горном ауле. Автор сводит Печорина с людьми различных национальностей, профессий, убеждений, разной степени культуры. Обстановка, события, люди - всё привлекается для того, чтобы зримо, в полный рост показать Печорина, раскрыть его сложный, противоречивый духовный мир. Этой задаче подчинена и манера повествования.
Бэла
Я ехал на перекладных из Тифлиса Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.
Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни.
За моею тележкою четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка.
- Мы с вами попутчики, кажется?
Он молча опять поклонился.
- Вы, верно, едете в Ставрополь?
- Так-с точно... с казенными вещами.
- Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
- Вы, верно, недавно на Кавказе?
- С год, — отвечал я.
Он улыбнулся вторично.
- А что ж?
- Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!
- А вы давно здесь служите?
- Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче,— отвечал он, приосанившись. -— Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он,— и при нем получил два чина за дела против горцев.
- А теперь вы?..
- Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..
Я сказал ему.
- Нам придется здесь ночевать,— сказал он с досадою, — в такую метель через горы не переедешь.
Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям.
- Не хотите ли подбавить рому? — сказал я своему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.
- Нет-с, благодарствуйте, не пью.
- Что так?
- Да так Я дал себе заклятье.
- Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях
- Как же это случилось?
- Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости.
Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
- А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.
- Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..
- Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.
- А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездит: всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, яман будет твоя башка!»
Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых
мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.
У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.
- Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана
- Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?., вроде комплимента.
- А что ж такое она пропела, не помните ли?
- Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.
Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»— «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.
И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича.
В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».
Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться.
Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише.
- Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат, — если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!
Мне послышалось, что он заплакал.
- Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха ... Хочешь, дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?
Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса:
Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.
Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:
- Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.
- Меня? — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался.
Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.
- Плохое дело в чужом пиру похмелье,— сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, — не лучше ли нам поскорей убраться?
Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.
- Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..
- Все, что он захочет, — отвечал Азамат.
- В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...
- Клянусь... Клянись и ты!
- Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет тебе калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.
- Согласен, — прошептал Азамат.
Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.
- А лошадь? — спросил я у штабс-капитана
- Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора он вошел ко мне;
Тем временем Азамат вскочил на Карагёза и ускакал.
Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошёл к нему.
- Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.
- Что нехорошо?
- Да то, что ты увез Бэлу...
- Да покажите мне ее, — сказал я.
- Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна
Никогда не забуду одной сцены, шёл я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.
- Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой. - Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала — Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мы слито, в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. — Послушай, милая, добрая Бэла — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить. Я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?
Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия.
- Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба; конечно ты можешь меня принудить, — и опять слезы.
Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.
- Что, батюшка? — сказал я ему.
- Дьявол, а не женщина! — отвечал он, — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...
Я покачал головою.
- Хотите пари? — сказал он, — через неделю!
- Извольте!
Мы ударили по рукам и разошлись.
На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.
- Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?
- Вы черкешенок не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.
А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее— да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он,— ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль •— такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал— и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так — глупость!..
Штабс-капитан замолчал.
- Да, признаюсь, — сказан он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила
- И продолжительно было их счастье? — спросил я.
- Да она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да они были счастливы!
- Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?
- То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...
Внимание мое пробудилось снова.
- Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь.
Славная была девочка эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила
- А что, когда вы ей объявили о смерти отца?
- Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала я потом забыла
Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо,— подумал я, верно между ними черная кошка проскочила!»
Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.
- А где Печорин? — спросил я.
- На охоте.
- Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.
- Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.
- Уж не случилось ли с ним чего?
- Я вчера целый день думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.
- Права, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:
- Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его — я княжеская дочь!..
Я стал ее уговаривать.
- Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит, да и придет, а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.
- Правда, правда! — отвечала она, — я буду весела — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.
Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!
Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька
Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный; с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой -— бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..
- Посмотри-ка, Бэла, — сказал я, — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..
Она взглянула и вскрикнула:
- Это Казбич!..
- Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда
- Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! — подумал я, — ив тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»
- Подойди-ка сюда, — сказал я часовому, — осмотри ружье да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром.
- Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте... — Прикажи! — сказал я, смеясь...
- Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой, — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?
Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры,—* как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!., мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по- своему, пригрозил нагайкой — и был таков.
- Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.
- Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он, такой проклятый народ, сразу не убьешь.
Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.
- Помилуйте, — говорил я,— ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...
Тут Печорин задумался. «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».
Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь:
«О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего- нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.
Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч,— отвечал он,— у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение— только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но to любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться— науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди— невежды, а слава— удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями— напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к олизости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, — только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний...
Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение...
К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!.. «Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.
Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза...
Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему. — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что- то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда— да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле.
Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей; хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.
Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». — «Правда!» — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...
Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...
Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.
К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой.
Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...
На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины.
- Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е... й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались.
Подумаем над произведением
1. В предисловии к роману «Герой нашего времени» М.Ю Лермонтов написал следующее: «Герой нашего времени - портрет, но не одного человека: этот портрет составлен из пороков нашего поколения в полном развитии». О каких пороках говорил Лермонтов, как они описаны в Бэле?
2. «Печорин жертва своего времени» согласны ли вы с таким мнением и почему?
3. Как вы думаете по своей ли воле Печорин оказался на Кавказе?
4. Кто ведёт рассказ о Печорине?
5. Любил ли Печорин Бэлу по- настоящему? Опишите Бэлу.
6. Почему Бэла не ушла от Печорина, любила ли она его?
7. В чём причина жестокости Азамата по отношению к сестре, почему он готов променять её на лошадь?
8. Охарактеризуйте Казбича, почему так предательски он поступил с Бэлой?
9. Критики считают, что в центре произведения - проблема личности, в чём она заключается?
10. Перескажите произведение «Бэла».
Тамань
Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще в добавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник1. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок, — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря.
Велев денщику выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.
«Где хозяин?» — «Нема». —«Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку»: — «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.
Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.
Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что б ель мы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...
«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. —«Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогий». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином». — «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».
Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю его мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.
Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел, и повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке.
Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но видно, это была не первая его прогулка судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присед на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.
- Что, слепой? — сказал женский голос, — буря сильна. Янко не будет.
- Янко не боится бури, отвечал тот.
- Туман густеет, — возразил опять женский голос с выражением печали.
- В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ.
- А если он утонет?
- Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.
Последовало молчание; меня, однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.
- Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши, — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные весла
Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.
- Ты бредишь, слепой, — сказала она, — я ничего не вижу.
Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка; она то увеличивалась, то уменьшалась.
Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка: и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эта странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.
Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. С утра я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.
Но, увы; комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три, четыре придет почтовое судно, сказал комендант, — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.
- Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.
- Да, брат, Бог знает когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:
- Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком — был прошлого года в отряде, как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли.
- Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?
- Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.
- Какая дочь? У нее нет дочери.
- А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.
Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глухая, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо, — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?., никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.
Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев старинный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.
Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там уж не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, пощелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса Но только я начинал говорить, она убегала коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет.
Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума
Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор.
- «Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — «Кто же тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою; кому услыхать, то услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто
- крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю?» — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние мои слова были вовсе не у места, я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.
- Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил на ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала меня надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.
- Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.
«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку»,-.-г— сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову!. Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу ее оттолкнуть от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.
«Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды: минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.
Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...
На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она, — все пропало!» Потом разговор их продолжался так тихо, что я ничего не мог расслышать «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.
- Послушай, слепой! — сказал Янко, — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания
Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.
- А я? — сказал слепой жалобным голосом.
- На что мне тебя? — был ответ.
Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. — «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал парус между темных волн; слепой мальчик точно плакал, долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!
Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?
Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..
Подумаем над повестью «Тамань»
1. Что означает дневник Печорина?
2. Зачем Лермонтов вводит Печорина в чуждую ему социальную
среду?
3. Почему автор с самого начала произведения говорит, что Тамань -
самый скверный городишка из всех приморских городов России?
4. Дайте портрет Янко?
5. Женский образ в повести «Тамань»
6. Опишите образ жизни контрабандистов?
7. Что принес Печорин контрабандистам, вмешавшись в их жизнь?
8. Перескажите повесть «Тамань».
Фаталист
Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.
Однажды, наскучив бостоном1 и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.
- Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения?
- Конечно, никто, сказали многие, — но мы слышали от верных людей...
- Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение', то зачем нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?
В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал, и медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.
Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.
Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн.
Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство.
Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.
- Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), — господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?
- Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придет же в голову!..
- Предлагаю пари! — сказал я шутя.
- Какое?
- Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев — все, что было у меня в кармане.
- Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.
- Хорошо, — сказал майор, — только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..
Вулич вышел молча в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.
- Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали
ему.
- Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки, — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?
Все замолчали и отошли.
Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.
- Вы нынче умрете! — сказал я ему.
Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:
- Может быть, да, может быть, нет... Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.
- Да полно, Вулич! — закричал кто-то, — уж, верно, заряжен, коли в головах висел, что за охота шутить!..
- Глупая шутка! — подхватил другой.
- Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — чакрнчал третий.
Составились новые пари.
Мне надоела эта длинная церемония.
Послушайте, — сказал я, — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.
- Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.
- Господа, я вас прошу не трогаться с места! — сказал Вулич, при ставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.
— Господин Печорин, прибавил он, — возьмите карту и бросьте вверх.
Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!
- Слава Богу! — вскрикнули многие, — не заряжен...
- Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался — дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине и пуля глубоко засела в стене.
Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы.
Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.
- Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...
- В первый раз от роду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь, — это лучше банка и штосса1.
- Зато немножко опаснее.
- А что? вы начали верить предопределению?
- Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...
Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.
- Однако же довольно! — сказал он, вставая, пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!
Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..
Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.
- Экой разбойник! — сказал второй казак, — как напьется чихиря2, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...
Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.
Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав.
Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.
- Что?
- Вулич убит.
Я остолбенел.
- Да, убит — продолжали они, — пойдем скорее.
- Да куда же?
- Дорогой узнаешь.
Мы пошли Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шея один по темной улице: на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг о становясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь» — «Тебя!» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.
Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.
Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?
Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника Никто, однако, не отважился броситься первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет, окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.
В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.
- Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул1, — так уж нечего делать, покорись!
- Не покорюсь! — отвечал казак.
- Побойся Бога Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!
- Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.
- Эй, тетка! —сказал есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.
Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.
- Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору, — он не сдастся — я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.
В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.
- Погодите, — сказал я майору, я его возьму живого.
Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить, и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.
- Ах ты окаянный! — кричал есаул, |— что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы, я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — точно, было с чем!
После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?., и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..
Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!
Подумаем над повестью «Фаталист»
1. Что означает слово фатум? Как вы относитесь к такому виду событий?
2. Как Печорин испытал свою судьбу?
3. Почему Печорин задает сам себе вопрос «Зачем я жил? Для какой цели
я родился?...»
4. Кто же виноват в том, что прекрасные задатки Печорина погибли?
Почему он стал нравственным калекой?
5. Охарактеризуйте Вулича.
6. Перескажите отрывок об убийстве Вулича, почему произошла эта
трагедия?
7. Перескажите повесть «Фаталист».
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Антон Павлович Чехов
(1860 - 1904)
 1860, 17(29) января. В Таганроге родился Антон
Павлович Чехов.
1860, 17(29) января. В Таганроге родился Антон
Павлович Чехов.
1869 -1879. Учеба в гимназии.
1877. Первое посещение Москвы.
1877 - 1878. «Пьеса без названия» («Безотцовщина»)
1879. Поступил на медицинский факультет Московского университета.
1880, 9 марта. Первая публикация Чехова «Письмо донского помещика Степана Владимировича N. к ученому соседу д-ру Фридриху» (еженедельник «Стрекоза»).
1884. июнь. Окончание медицинского факультета Московского университета. Выход в свет сборника «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте.»
1886, 15 февраля. Напечатан первый рассказ Чехова в газете «Новое время» - «Панихида».
1886. Вышла книга «Пестрые рассказы».
1888, май - июнь. Вышла книга «Рассказы».
1888, 7 октября. Чехову присуждена академическая Пушкинская премия за сборник «В сумерках».
1890, 21 апреля. Отъезд на Сахалин.
1890, 11 июля - 13 сент. Пребывание на Сахалине.
1890, 16 окт. - 1 дек. Возвращение морем - из Владивостока, через Гонконг, Сингапур, Коломбо, Индийский океан, Суэцкий пролив, Константинополь в Одессу.
1891, дек.- 1892, февр. Помощь голодающим крестьянам Нижегородской и Воронежской губерний.
1892, 4 марта. Переезд в Мелихово.
1892, лето. Лечение больных во время эпидемии холеры в Тульской губернии.
1893, июнь - июль. Закончена книга «Остров Сахалин».
1895, 14 декабря. Знакомство с И.А. Буниным.
1897, февраль - июль. Строительство школы в Новоселках.
1897, 22 марта - 10 апр. Сильное легочное кровотечение.
1897, 6 мая. Чехову пожалована бронзовая медаль за труды по переписи населения.
1897, 31 октября. Чехов избран членом Союза взаимопомощи русских писателей и ученых.
1898, июль - август. Постройка в Мелихове земской школы.
1898, сентябрь. Знакомство с О.Л.Книппер.
1899, 19 марта. Знакомство с М. Горьким.
1899, 6 декабря. Пожалован орденом св. Станислава третьей степени «за отличное усердие в делах народного просвещения».
1899, декабрь. Вышел первый том собрания сочинений Чехова в издательстве А.Ф.Маркса.
1900, 8 января. Чехов избран почетным академиком по разряду изящной словесности.
1901, 25 мая. Венчание в Москве с О.Л.Книппер.
1902, 25 августа. Послал в Академию наук письмо с отказом от звания почетного академика.
1903, начало декабря. Публикация последнего рассказа «Невеста».
1904, май. Последняя прижизненная публикация Чехова - пьеса «Вишневый сад».
1904, 3 июня. Чехов с женой уехал в Баденвейлер.
1904, 2 (15) июля. В три часа ночи Чехов скончался.
Глава I.
«В детстве у меня не было детства…»
Родился Чехов в 1860 году 17 января в Таганроге и там же получил свое первоначальное и гимназическое образование. Он до самой своей смерти относился к этому городу, как к родному, заботился о его публичной библиотеке и вел оживленную переписку с его видными представителями.
У Павла Егоровича и Евгении Яковлевны Чеховых – родителей писателя, было пятеро сыновей и одна дочь. Антон Павлович был третьим сыном.
 Отец
писателя, неудачливый коммерсант, имевший небольшую лавочку в Таганроге, был
человеком талантливым: он рисовал, увлекался музыкой, особенно церковным
пением. Но его безудержная власть измучила семью. Жестокость, телесные
наказания, религиозное ханжество – вот на чем держалась «воспитательная
система» Павла Егорыча. Стремясь во что бы то ни стало выбиться в люди и
обеспечить семью, он не жалел детей и превратил их в маленьких каторжников.
Отец
писателя, неудачливый коммерсант, имевший небольшую лавочку в Таганроге, был
человеком талантливым: он рисовал, увлекался музыкой, особенно церковным
пением. Но его безудержная власть измучила семью. Жестокость, телесные
наказания, религиозное ханжество – вот на чем держалась «воспитательная
система» Павла Егорыча. Стремясь во что бы то ни стало выбиться в люди и
обеспечить семью, он не жалел детей и превратил их в маленьких каторжников.
Когда Антон Павлович говорил: «В детстве у меня не было детства», - то он подразумевал под этим многое. Прежде всего самый режим жизни детей Павла Егоровича был не очень детским, - это был почти каторжный трудовой режим. Лавочка Павла Егоровича торговала с 5 утра до 11 вечера, заботу о ней Павел Егорович нередко возлагал целиком на сыновей. День его детей распределялся между лавочкой, гимназией, опять лавочкой, бесконечными спевками церковного хора, которым руководил отец. Кроме того, дети учились ремеслу, Антоша – портняжному. Антоша должен был с малых лет приучаться и к счетному делу, а главное – к искусству торговли, в которое входило и почтительное обращение с покупателями и знание приемов «обмеривания, обвешивания и всякого мелкого плутовства», - как писал в своих воспоминаниях старший брат Антона Павловича – Александр Павлович – «Антон Павлович прошел из под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь». Отец Павел Егорович воспитывал своих детей деспотически. Порки были частым явлением в семье.
 Свет
и радость в жизнь детей вносила мать – Евгения Яковлевна. Она была прекрасная
хозяйка, очень заботливая и любящая, жила исключительно жизнью детей и мужа.
Свет
и радость в жизнь детей вносила мать – Евгения Яковлевна. Она была прекрасная
хозяйка, очень заботливая и любящая, жила исключительно жизнью детей и мужа.
Евгения Яковлевна оказывала огромное влияние на формирование характеров своих детей, воспитывая в них отзывчивость, уважение и сострадание к слабым, угнетенным, любовь к природе и миру. Антон Павлович впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».
Еще более сильным врагом его свободы, чем семейный деспотизм, была Таганрогская гимназия. Антон обладал актерским дарованием, с детства любил сцену. Очищая свои души от впечатлений церкви и лавки, Антон и старшие братья разыгрывали веселые импровизированные представления. Но посещение театра гимназистам разрешалось очень редко, поэтому он иногда пробирался на галерку переодетым, с приклеенной бородой в очках.
В 1876 году, когда Антону было 16 лет, жизнь его круто изменилась: он остался в Таганроге один и должен был сам зарабатывать. Отец разорился и бежал из Таганрога, где ему грозила долговая тюрьма, и поселился в Москве, куда ранее уехали учиться его старшие сыновья Александр и Николай.
Антон очень нуждался, но не унывал. Заканчивая курс гимназии, он стал давать уроки.
Для Антона Чехова начались годы самостоятельной и – несмотря на постигшую бедность – свободной жизни. Бедность, впрочем, была относительной – продовольствие в тогдашнем Таганроге было дешево. Плохо было с одеждой, обувью, не хватало денег на книги. Но зато была свобода, не обуздываемая ежедневно и ежечасно властной рукою отца.
Трудности не делали Антона мрачным – он острит в письмах к братьям, в посылку вкладывает дверную петлю и бублик, шутит в письмах к родителям, которых это иногда обижает.
«… Мы от тебя получили 2 письма наполненные шутками, а у нас в то время только было 4 коп. и на хлеб и на светло». Энергия в нем кипела, его хватало и на учебу, и на театр, и на репетиторство, и на литературные занятия, на посещение библиотеки и городского сада. Городской сад был популярен даже зимой – там устраивали каток, Антон был среди любителей катания. Но летом сад в жизни молодого поколения занимал совершенно особое место.
 Была
«гимназическая» аллея, она же «аллея вздохов». Здесь завязывались все
гимназические романы, здесь постоянно бывал Чехов – он состоял в свите
красавицы Черец. Женская красота начала волновать его мало, но по некоторым
косвенным данным можно полагать, что среди его первых увлечений была гречанка.
Позже Чехов рассказывал, что романы его всегда были жизнерадостны…
Была
«гимназическая» аллея, она же «аллея вздохов». Здесь завязывались все
гимназические романы, здесь постоянно бывал Чехов – он состоял в свите
красавицы Черец. Женская красота начала волновать его мало, но по некоторым
косвенным данным можно полагать, что среди его первых увлечений была гречанка.
Позже Чехов рассказывал, что романы его всегда были жизнерадостны…
В эти годы юноша очень много читал, писал очерки для гимназического журнала и даже «издавал» для братьев собственный журнал «Заика», который отправлял в Москву. Также им была написана пьеса «Безотцовщина» и водевиль «Не даром курица пела».
 После
окончания гимназии, Чехов перебрался к семье и поступил на медицинский
факультет Московского университета.
После
окончания гимназии, Чехов перебрался к семье и поступил на медицинский
факультет Московского университета.
Проверьте себя
1. Почему Чехов сказал: «В детстве у меня не было детства»?
2. Чем занимался отец Чехова – Павел Егорыч?
3. Почему воспитательная система Павла Егорыча держалась на жестокости и телесных наказаниях?
4. Какому ремеслу обучался Антоша?
5. Как очищали свои души от церкви и лавки братья Чеховы?
6. Как сложилась судьба отца Чехова?
7. Как влияла на своих детей мать – Евгения Яковлевна?
8. Как вы думаете, почему жизненные трудности не делали Антона мрачным?
Глава II
Доктор Чехов

Важность миссии врача выделяет эту профессию из всех существующих на земле: «Профессия врача – это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоту помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».
«Насколько лучше чувствуешь себя перед самим собой, когда можешь дать царственный подарок – здоровье, отдавая только себя без того, чтобы дар был оплачен»
На протяжении всего своего творческого пути Антон Павлович будет развивать образ врача-стяжателя, считающего купюры, чтобы, наконец, заклеймить его в ставшем нарицательным именем Ионыч.
Общеизвестно шутливое определение Чехова, что медицина – это его законная жена, а литература – любовница. Но это был тот редкий случай, когда любовная связь не наносила ущерба законному союзу, который в свою очередь обогащал любовь новым содержанием и знаниями.
И все-таки, как профессии врача и писателя ни далеки друг от друга, между ними существует глубокая связь. Не потому ли медицина подарила миру много писателей, и среди них выдающегося Чехова.
Вопрос о выборе факультета, по-видимому, был решен на семейном совете. Сохранилось письмо матери, в котором есть такие строки: «… Терпенья не достает ждать, и непременно по медицинскому факультету иди, уважь меня, самое лучшее занятие».
10 августа 1879 г. Чехов был зачислен в Московский Университет.
Первое знакомство с университетом произвело на Чехова неблагоприятное впечатление: ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, унылый вид ступеней, вешалок и скамей. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильное и изящное. Об учебе Чехова в университете имеются весьма скудные сведения. За годы учебы в университете Чехов подготовил сборник рассказов. Бедность побуждала к неустанной работе, однако все его литературные гонорары уходят, как он выражался «в утробу» - на пропитание многочисленной семьи, а сам Антон Павлович не имел даже возможности сменить ветхий серенький сюртук на новый костюм.
Но ни в годы учебы, ни позже, никогда в жизни он не позволит себе переложить заботы о матери, отце и сестре на другие плечи.
«… Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти в себе извинение в характере матери, в кровохарканье и проч. Это естественно и извинительно. Такова уже натура человеческая…» - напишет он брату Николаю в известном письме, в котором изложен чеховский кодекс порядочного и воспитанного человека.
 «Воспитанные
люди, - уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… Они, - не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки, живя
с кем-нибудь, они не делают из этого одолжение, а, уходя не говорят: с вами
жить нельзя! Они прощают и шум, и холод… и остроты и присутствие в их жилье
посторонних… Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют
душой и от того, чего не увидишь простым глазом… Они чистосердечны и боятся
лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и
опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же,
как дома. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают.
Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не
играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они
не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со
знаменитостями…
«Воспитанные
люди, - уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы… Они, - не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки, живя
с кем-нибудь, они не делают из этого одолжение, а, уходя не говорят: с вами
жить нельзя! Они прощают и шум, и холод… и остроты и присутствие в их жилье
посторонних… Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют
душой и от того, чего не увидишь простым глазом… Они чистосердечны и боятся
лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и
опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же,
как дома. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают.
Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не
играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они
не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со
знаменитостями…
Они не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пускают. Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки.… Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную… Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем … Они горды своим талантом, сознавая, что они призваны воспитывающе влиять… К тому же они брезгливы. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу… В здоровом теле – здоровый дух».
Методы исследования больного Чеховым заключались в тщательном расспросе пациента не только об отдельных его ощущениях, но и о мельчайших подробностях его жизни, быта и труда – для «постижения связи всех явлений данного болезненного случая».
Весной 1884 г. Антон Павлович успешно выдержал выпускные государственные экзамены и был направлен в деревенскую больницу, где естественно не мог приобрести солидный клинический опыт, но здесь он прошел главную врачебную школу – школу сострадательного отношения к больному и бескорыстного служения общественному благу. Этой школе он останется верен всю свою жизнь. Он все делал с любовью, терпеливо выслушивал больного, ни при какой усталости не возвышал голоса. Вскоре он решает попытать счастья на поприще городского частнопрактикующего врача. Начата она была с острых переживаний, когда, вернувшись домой от пациента, вдруг вспомнил, что в рецепте неправильно поставил запятую, увеличив дозу сильнодействующего препарата, он помчался через весь город к больному.
Зная его доброту к безотказность, к нему за медицинской помощью обращались нищенствующие журналисты и литераторы. Чехов нередко отказывается от положенного ему гонорара. То и дело к нему за помощью обращаются родственники, друзья и знакомые. «Иметь у себя в доме врача – большое удобство» - иронизирует по этому поводу Антон Павлович.
Свое знакомство с крестьянами Антон Павлович начал с просьбы, чтобы не звали его барином. «Я не барин, я доктор. Лечить Вас буду» Он отстаивает интересы крестьян и благодаря его вмешательству было запрещено строительство кожевенного предприятия на речке Люторке, откуда население брало воду. 1892 г. – год приобретения Чеховым мелиховской усадьбы совпал со страшной эпидемией холеры. Антон Павлович организует медицинское обеспечение своего участка, в состав которого входит 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Благодаря тому, что были приведены противоэпидемические мероприятия в Серпуховеком уезде было зарегистрировано всего 14 случаев заболевания, а очаги инфекций были быстро локализованы. Сколько раз, когда он, не чувствуя страха, «ловил за хвост холеру», или спешил на вызов к ребенку, больному дифтерией, или считал пульс у тифозного больного – сколько раз он рисковал собственной жизнью, совершенно не думая о себе?
Чехов не только рисковал собственной жизнью, но и сокращал ее, потому что нес эту неимоверную нагрузку тяжело больной человек, которому самому требовались покой и лечение.
Проверьте себя
1. Почему Чехов решил стать врачом?
2. Какое впечатление произвело на Чехова первое знакомство с университетом?
3. Как он зарабатывал на жизнь во время учебы на медицинском факультете?
4. Почему он не позволил себе переложить заботы о матери, отце и сестре на друге плечи?
5. Перескажите письмо Чехова к брату о воспитанности.
6. Как Чехов работал и лечил больных?
7. Почему часто отказывался от положенного ему гонорара?
8. Расскажите, как Чехов занимался частной практикой, и почему просил крестьян не называть его барином?
Глава III.
«Скверно вы живете, господа….»
Едва ли не главную роль в формировании Чехова – человека и писателя – играл труд. Труд упорный, систематический, труд, которым с детских лет заполнена была вся его жизнь.
«Если каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!»
Первый рассказ Чехова «Письмо к ученому соседу» был напечатан в 1880 году. Чехов вступает на писательский путь в пору, когда был казнен Александр II, и в стране наступила пора жестокого террора. «Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, учить грамоте» – писал позднее об этом времени Чехов («Человек в футляре»).
Начав свой писательский путь как юморист и сатирик, Чехов на первых порах еще не придавал серьезного значения своему литературному труду. Он умел смеяться весело и как будто без всякой «задней мысли» – строя сюжеты на психологических казусах и нелепых происшествиях, то есть на комизме положений, настраивая на веселый лад читателей своих рассказов уже подписями под ними: «Антоша Чехонте», «Брат моего брата», «Человек без селезенки». Смех Чехова направлен против человеческих пороков независимо от чина, культуры, сословия героя. Мелкость души и низость побуждений он презирал. Чинопочитание берет верх над жизнью чиновника. Это, конечно, преувеличение, но не слишком сильное, нравы чиновников действительно были близки к этому. («Смерть чиновника»).
Поражает разнообразие показанных образов, жизненных ситуаций. Язык Чехова не похож на язык других писателей. Он очень красив, а главное, доступен и понятен, сразу видна главная мысль писателя, но эта простота и открытость, в первую очередь, свидетельствуют о глубине жизненного опыта автора. Прекрасно показан образ народа, в произведениях Чехова героями являются люди всех классов общества, начиная от крепостных и заканчивая людьми, приближенными к государю. Тематика произведений Чехова иногда перекликается с тематикой таких писателей, как Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, А.Н.Островский. Но Чехов глубоко индивидуален, его стиль, его точка зрения не похожи на стиль и точку зрения других авторов. Несомненно, Антон Павлович – великий писатель и драматург.
Наиболее близки и понятны для читателя великолепные рассказы писателя, как: «Умный дворник», «Ионыч», «Кривое зеркало», «Невеста», «О любви». Это далеко не полный список. В рассказе «Умный дворник» автор затрагивает чрезвычайно важную тему образования народа, но подчеркивает, что его самообразование практически невозможно. А тема положения женщины в обществе раскрывается в рассказе «Невеста». Наде открывается впереди обеспеченная жизнь за спокойным, умным человеком, но она задает себе вопрос: «А что дальше?» А дальше – скучная жизнь без просвета. Мать говорит ей: «И не заметишь, как сама станешь старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня». Надя ужасается и выбирает возможность учиться, проявить себя.
 Темы рассказов А.П.Чехова перекликаются с многогранной
темой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». В рассказах и в
романе рассматриваются темы «униженных и оскорбленных», человеческих отношений,
любви, становления личности, положения женщины в обществе, нравственных
переживаний.
Темы рассказов А.П.Чехова перекликаются с многогранной
темой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». В рассказах и в
романе рассматриваются темы «униженных и оскорбленных», человеческих отношений,
любви, становления личности, положения женщины в обществе, нравственных
переживаний.
В течение всей своей писательской жизни, начиная еще с гимназических времен, Чехов увлекался драматургией.
Первая его пьеса «Чайка» была поставлена в 1896 году в Петербурге. За «Чайкой» последовали «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».
Это классика театра. Трудно представить русскую драматургию без чеховских пьес, которые написаны живым, метким русским языком. Пьеса «Вишневый сад» поднимает социальную проблему: за кем будущее России? Дворянство уходит со статуса ведущего класса, но будущее не за такими, как Лопахин, который прямо себя оценивает: «Мой папаша был мужик, идиот..., меня не учил, а только бил спьяна и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот». Эти люди невежественны, хотя и деловые, но допускать их до высоких постов нельзя.
Актуальность чеховских произведений, ни у кого не вызовет сомнений. По его жизненному опыту, изложенному в произведениях, мы учимся жить.
Его произведения (Чехова) воспитывают умение видеть красоту в жизни – в жизни самой обыденной, повседневной – отличать от красоты душевное уродство, каким бы нарядом оно не прикрывалось. Учат отличать правду ото лжи, презирать и ненавидеть ложь. Они воспитывают отвращение к грубости и хамству, к пошлости и холопству, учат уважать человека – в себе и других, учат человеческому достоинству.
В отличие от своих коллег юмористов, писавших для развлечения публики, Антоша Чехонте не столько развлекал, сколько будил мысль читателя. Беззаботный юмор незаметно перерастает в сатиру.
Беспощадно строгий к себе, к своему писательскому труду, Чехов, достигнув славы и признания, внутренне тяжело страдает. Он хочет погрузиться в гущу жизни, глубже узнать родину, чтобы выработать четкую систему взглядов на действительность. Это стремление побудило Чехова совершить очень тяжелую поездку на далекий Сахалин. Самым тяжким для Чехова, чувствовавшего ответственность на все, что происходит в стране, было соприкосновение с ужасами каторги. «Сахалин – это место невыносимых страданий…», - писал Чехов.
Книга Чехова «Остров Сахалин», явилась настолько острым разоблачением преступлений самодержавия, что правительство вынуждено было назначить комиссию для расследования положения каторжных на Сахалине.
Чехов, обычно недооценивавший свои произведения, на этот раз был доволен тем, что в его «литературном гардеробе будет висеть и этот жесткий арестантский халат» («Палата №6»).
Смех Чехова – то веселый, то с оттенком лирической грусти, то легкий и светлый, то граничащий с сатирой – поистине неисчерпаем. Беззаконие и беспринципность властей, трусость и подлость, утрату чувства человеческого достоинства – вот что обличает автор в своих рассказах («Толстый и Тонкий»).
Чеховские пьесы, в которых весь интерес сосредоточен не на внешних эффектах, не на крутых поворотах действия, а на духовной жизни персонажей, завоевали огромный успех у публики. Тяжелое детство, юность, прошедшая в трудах и лишениях, поездка на Сахалин, напряженный труд писателя, врача – все это сказалось на здоровье Чехова. Постепенно подкрадывалась к нему страшная, неизлечимая тогда болезнь – чахотка. Весной 1904 года врачи решили отправить его на лечение в немецкий городок Баденвейлер. Чехов понимал, что едет туда умирать. И все-таки крупица надежды жила в его душе. Он мечтал написать новую пьесу, поехать на Дальний Восток, где шла война с Японией. Он хотел помогать людям не только как писатель, но и как врач.
Это был художник, который вошел в литературу весело и ушел из жизни, насмешив жену (за несколько часов до смерти) рассказом о курортниках, пропустивших гонг к ужину. Последний сюжет Чехова, как и его литературный дебют, был юмористическим. И в этом, как во многом другом, он оставался верным своему таланту.
Проверьте себя
1. Что сказал Чехов о труде?
2. Какими псевдонимами подписывал Чехов свои первые произведения?
3. В каком жанре писал свои рассказы А.П.Чехов?
4. В каком рассказе Чехов затрагивает тему положения женщины в обществе?
5. Перечислите первые пьесы А.П.Чехова?
6. Почему юмор в его произведениях постепенно перерастает в сатиру?
7. Что побудило А.П.Чехова совершить поездку на Сахалин?
8. Куда мечтал поехать Чехов и почему?
Глава IV.
Остров Сахалин
Во времена Чехова о Сахалине сложили пословицу: «Кругом море, а посередине - горе».
Антон Павлович считал для себя необходимым окунуться в это горе, побывать на этом острове невыносимых человеческих страданий.
Сахалин называли «каторжным» островом, потому что там издавна содержали людей, отбывавших каторгу, или по окончании каторжного срока живших там на поселении.
На протяжении нескольких месяцев Антон Павлович тщательно готовится к путешествию. Изучает литературу от истории открытия и освоения острова, до статей по геологии, этнографии и уголовному праву.
Дорога А.П. Чехова до Сахалина продолжалась почти три месяца – 81 день. Это был трудный и рискованный путь в открытой повозке то под холодным дождем с переправами через бурные реки, то в жару и зной сквозь удушливый дым лесных пожаров.
Описывая свое первое появление на острове, когда толпа каторжан стоявших возле пристани, выполняя одно из унизительных правил устава, словно по команде сняла перед ним шапки, не зная кого они приветствуют, Чехов не удержится от иронического замечания: «Такой чести до сих пор не удостаивался еще ни один литератор».
На Сахалине, вставая ежедневно в 5 часов утра и работая до поздней ночи. Чехов провел перепись населения. «Сахалин – это место невыносимых страданий…- писал Чехов - … Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст… размножали преступников и все это сваливали на тюремных смотрителей… Виноваты не смотрители, а все мы». Он прошел весь остров с севера на юг, познакомился с жизнью большинства ссыльных, значение придавал переписи детского населения. В карты, которых зафиксированы все малолетние обитатели острова.
«… Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубище и всегда хотят есть. Жизнь впроголодь, питание иногда по целым месяцам одною только брюквой, а у других – одною соленою рыбой, низкая температура и сырость убивают детский организм. Дети в условиях каторги обречены на вымирание, и матери хотят только одного: чтобы «господь милосердный прибрал их поскорее…» После возращения домой Чехов пытается хоть минимально улучшить положение сахалинской детворы: посылает на остров книги и учебные пособия, хлопочет об открытии приютов.
Писатель постоянно подчеркивает, что на острове все предназначено для угнетения человека, даже описание сахалинской природы: «… небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною».
Чехов не обошел своим вниманием и тюремную медицину. Он показал, как за лоснящимся фасадом, украшенным бюстом С.П. Боткина, процветают воровство, равнодушие и даже садизм. Когда Антон Павлович увидел на руднике старика в глубоком обмороке и попросил врача дать ему хоть валерьяновых капель, выяснилось что в аптечке нет никаких лекарств. На острове большое количество трофических язв, но ни разу он не слышал запах йодоформа. И все это при том, что по отчетным данным на лекарства уходили громадные суммы. Точно так же обстояло дело с простейшим медицинским инструментарием. Антон Павлович в тюремном лазарете попытался вскрыть гнойник и ему все время подавали тупые скальпели. Между тем смета, отпущенная на лазарет, 2,5 раза превышала расходы лучшей в Московской губернии больницы.
Обстоятельства лазарета потрясает своим ужасом: в одной кровати лежит больной с перерезанным горлом, слышно как сипит воздух, повязки на шее нет, рана предоставлена себе самой, на другой кровати лежит больной с гангреной.
В эпоху таких выдающихся врачей, как Г.А. Захарьин и С.П. Боткин, лечение в тюремном лазарете превращается в профанацию медицины: врач должен ставить диагноз, не прикоснувшись к больному, на расстоянии, так как между ним и пациентом – преграда из деревянной решетки и надзиратели с револьверами. Во что можно превратить самую гуманную на земле профессию.
«… Доктор приказал раздеться и выслушал сердце для того, чтобы определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра».
Больничные порядки на острове отстали от цивилизации, по мнению А.П. Чехова, на два века, и он не удивился бы, если бы увидел, что умалишенных здесь сжигают на костре по указанию тюремных врачей.
К обвинительному заключению русской каторге собранному писателем и журналистом, добавились материалы, добытые Чеховым – врачом.
Итогом этой поездки, стоившей Чехову обострения туберкулезного процесса, стала его книга «Остров Сахалин». Она явилась настолько острым разоблачением каторжных порядков, что правительство вынуждено было назначить комиссию для расследования положения ссыльнокаторжных на Сахалине. «Остров Сахалин» был предметом особой гордости Чехова. «Я рад, что в моём беллетрическом гардеробе, - писал он в обычной для него шутливой манере, - будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»
Как отголосок впечатлений, вынесенных с острова – тюрьмы, возник замысел его рассказа «Палата №6».
Гнетущая атмосфера Рачинской больницы почти дословно списана с больничного журнала села Корсаковки: «В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра…»
Все в этой повести вызывает тюремные ассоциации: и унылый вид больничного флигеля, и окружающий его забор, утыканный гвоздями с остриями, обращенными кверху, и бесправные больные, осужденные на бессрочную каторгу, и красноносый охранник Никита, который убежден, что больных «для порядка» надо бить. Даже возникновение заболевания у одного из главных героев «Палаты №6» является как бы логическим завершением судьбы ничем не защищенного режима.
«В палате №6, говорил Н.С. Лесков, в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – палата №6. Это Россия…»

Проверьте себя
1. Как Вы понимаете пословицу о Сахалине: «Кругом море, а посередине горе»?
2. Как готовится к поездке на Сахалин А.П.Чехов?
3. О чем А.Чехов сказал так: «Такой чести до сих пор не удостаивался ещё ни один литератор»?
4. В каком режиме работал А.П.Чехов на Сахалине?
5. Что писал А.П.Чехов о детях Сахалина?
6. Как пытается улучшить жизнь детей после приезда с острова?
7. Расскажите, что пишет Чехов о тюремной медицине?
8. О какой книге А.П.Чехов сказал: «Я рад, что в моем беллетрическом гардеробе, - будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»?
Глава V.
Жизнь в Мелихове.
 Вернувшись
из поездки, Чехов поселился (в 1892 году) под Москвой, в небольшом имении
Мелихове (теперь г. Чехов). Писатель надеялся обрести в Мелихове, в жизни на
лоне природы душевный покой, который так необходим для творчества. Однако покой
получился весьма относительный. Из Москвы часто наезжали гости: друзья,
знакомые, а иногда и совсем посторонние люди, желавшие поближе узнать
известного писателя. Чеховы всегда были рады гостям, но творчеству это мешало.
Отвлекали и хозяйственные заботы, их было немало, несмотря на то, что основную
работу по уходу за домом и садом взяли на себя родители Чехова, сестра Мария
Павловна и младший брат Михаил.
Вернувшись
из поездки, Чехов поселился (в 1892 году) под Москвой, в небольшом имении
Мелихове (теперь г. Чехов). Писатель надеялся обрести в Мелихове, в жизни на
лоне природы душевный покой, который так необходим для творчества. Однако покой
получился весьма относительный. Из Москвы часто наезжали гости: друзья,
знакомые, а иногда и совсем посторонние люди, желавшие поближе узнать
известного писателя. Чеховы всегда были рады гостям, но творчеству это мешало.
Отвлекали и хозяйственные заботы, их было немало, несмотря на то, что основную
работу по уходу за домом и садом взяли на себя родители Чехова, сестра Мария
Павловна и младший брат Михаил.
 Самочувствие
также оставляло желания лучшего: время от времени болезнь давала о себе знать.
Появились и новые обязанности, отнимавшие много сил. «С первых же дней, как мы
поселились в Мелихове, - вспоминал впоследствии Михаил Чехов, - все кругом
узнали, что Антон Павлович – врач. Приходили, привозили больных в телегах и
далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом
уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил,
выстукивал, выслушивал». Когда в 1892 году в центральных губерниях России
началась эпидемия холеры, Чехов стал работать врачом в Серпуховском уезде, на
территории которого располагалось Мелихово: им был открыт временный врачебный
участок, где он регулярно вел прием, выдавал лекарства, осуществлял санитарный
надзор, делал статистические записи о заболеваниях. За два года в мелиховском
врачебном участке было принято более 1500 больных. При этом, по свидетельству друга
Чехова – доктора П.И. Куркина, мелиховский доктор «нашел удобным отказать от
вознаграждения, какое получают участковые врачи»; то есть помощь Чехова-врача
была безвозмездной. И так он поступал всегда. На его средства в Мелихове и двух
других соседних селах были построены школы для крестьянских детей, и школы, по
его собственным словам, «образцовые». В устах человека необычайно скромного,
считавшего любое самовосхваление вещью этически недопустимой, такие слова
многого стоят. В одном из записных книжек Чехова есть слова, которые можно
рассматривать как этический девиз Чехова-человека: «Хорошо, если бы каждый из
нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь, чтобы жизнь не
проходила и не уходила в вечность бесследно».
Самочувствие
также оставляло желания лучшего: время от времени болезнь давала о себе знать.
Появились и новые обязанности, отнимавшие много сил. «С первых же дней, как мы
поселились в Мелихове, - вспоминал впоследствии Михаил Чехов, - все кругом
узнали, что Антон Павлович – врач. Приходили, привозили больных в телегах и
далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом
уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил,
выстукивал, выслушивал». Когда в 1892 году в центральных губерниях России
началась эпидемия холеры, Чехов стал работать врачом в Серпуховском уезде, на
территории которого располагалось Мелихово: им был открыт временный врачебный
участок, где он регулярно вел прием, выдавал лекарства, осуществлял санитарный
надзор, делал статистические записи о заболеваниях. За два года в мелиховском
врачебном участке было принято более 1500 больных. При этом, по свидетельству друга
Чехова – доктора П.И. Куркина, мелиховский доктор «нашел удобным отказать от
вознаграждения, какое получают участковые врачи»; то есть помощь Чехова-врача
была безвозмездной. И так он поступал всегда. На его средства в Мелихове и двух
других соседних селах были построены школы для крестьянских детей, и школы, по
его собственным словам, «образцовые». В устах человека необычайно скромного,
считавшего любое самовосхваление вещью этически недопустимой, такие слова
многого стоят. В одном из записных книжек Чехова есть слова, которые можно
рассматривать как этический девиз Чехова-человека: «Хорошо, если бы каждый из
нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь, чтобы жизнь не
проходила и не уходила в вечность бесследно».
Хотя общественные, гражданские обязанности и отнимали время от творческих занятий, Чехов не считал нужным противопоставлять одно другому. И можно только поражаться тому, как много замечательных произведений, составивших славу русской литературы, было написано им в Мелихове! Знакомство с крестьянской жизнью и жизнью интеллигенции, пытающейся помочь народу справиться с его бедами, отразилось в таких его повестях, как «Моя жизнь», «Мужики», «В овраге» (повесть создавалась в 1900 г., но явно по мелиховским впечатлениям), рассказе «Дом с мезонином».
В «крестьянской прозе» Чехова с невероятной силой проявилось его умение трезво, не утешая себя никакими иллюзиями, взглянуть на вещи. Чехов, сторонник просвещения, культурного прогресса, гуманных, цивилизованных нравов, не мог смотреть на жизнь русской деревни по другому, не мог не видеть, какие в крестьянской среде царят дикие нравы, какая слепая жестокость, какая духовная бедность, не говоря уже о бедности материальной, и как далеко все это от того, что принято считать нормой цивилизованного существования.
Умер Чехов в 1904 году в немецком курортном городе Баденвейлере, куда его перевезли в надежде хотя бы немного продлить его уже угасавшую жизнь. Похоронен Чехов в Москве, на Новодевичьем кладбище.
Чехов прожил недолгую жизнь. Но качество человеческой жизни определяется не ее духовной наполненностью. Жизнь Чехова – великого писателя и замечательного человека – была именно такой.
Перед смертью он попросил поднести ему бокал шампанского, выпил его, улыбнулся и сказал по-немецки, тихо и просто: «Я умираю».
Проверьте себя
1. Как проводит время в Меликово А.П.Чехов, вернувшись из поездки?
2. Что осмеивал в своих произведениях Чехов?
3. Как Вы понимаете юмор и сатиру? Чем они отличаются?
4. Воспитывают ли произведения А.П.Чехова?
5. Изменила ли его болезнь?
6. Каким человеком представляется Вам Чехов?
«Чехова меньше чем кого – либо расскажешь: его надо читать.
И, читая, мы в дорогой и благородной простоте его строк впитываем в себя почти каждое слово, потому что оно содержит в себе художественный штрих наблюдательности, необыкновенно смелое и поэтическое олицетворение природы или вещей, удивительную человеческую деталь»
Ю.Айхенвальд
ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
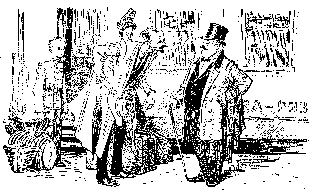
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
Проверьте себя
1. На какой лад настраивает читателя название рассказа?
2. Что хотел показать читателю Чехов, описывая Толстого и Тонкого? Можем ли мы догадаться об их образе жизни?
3. Можем ли мы сказать, что Толстый – добродушный, а Тонкий – хитрый?
4. Почему Тонкий, когда услышал, где служит Толстый, сначала побледнел, окаменел, потом широко улыбнулся?
5. Что мы можем сказать о личности Тонкого?
6. Как отнесся к такому внезапному поведению Тонкого, Толстый?
7. Расскажите, как они встретились и как попрощались?
СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! - подумал Червяков. - Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
- Извините, ваше - ство, я вас обрызгал... я нечаянно...
- Ничего, ничего...
- Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!
- Ах, сидите пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
- Я вас обрызгал, ваше - ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...
- Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! - сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, - подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. - И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
- А все-таки ты сходи, извинись, - сказала она. - Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
- То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел вицмундир, постригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько посетителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
- Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше - ство, - начал докладывать экзекутор, - я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...
- Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? - обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! - подумал Червяков, бледнея. - Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
- Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше - ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
- Да вы просто смеетесь, милостисдарь! - сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? - подумал Червяков. - Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
- Я вчера приходил беспокоить ваше - ство, - забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, - не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...
- Пошел вон!! - гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
- Что-с? - спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
- Пошел вон!! - повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и.. помер.
Проверьте себя
1. Почему рассказ называется «Смерть чиновника»?
2. Поменяйте название рассказа.
3. Как вы думаете, почему Червяков так настойчиво пытался извиниться перед Бризжаловым?
4. Какое чувство вызывает поведение Червякова?
5. Встречаются ли сейчас такие люди как Червяков?
6. Охарактеризуйте Червякова.
7. Как вы думаете, есть ли сходство между фамилией Червякова и его поведением?
РАДОСТЬ
Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбуждённый, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?
— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
— Что с тобой? На тебе лица нет!
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
— Да что такое случилось? Говори толком!
— Вы живёте, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас всё известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!
— Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведённое синим карандашом.
— Читайте!
Отец надел очки.
— Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
— Видите, видите? Дальше!
...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...
— Это я с Семёном Петровичем... Всё до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведён в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
...который он получил по затылку, отнесён к лёгким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь»...
— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Митя схватил газету, сложил её и сунул в карман.
— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо ещё Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!
Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
Проверьте себя
1. Почему рассказ называется «Радость»?
2. Что произошло с главным героем?
3. Почему Митя рад тому, что о нём напечатали в газете?
4. Как отреагировали на этот случай родители Мити?
5. Можно ли сейчас в современном мире встретить таких людей как Митя Кулдаров?
6. Как Вы думаете, как отнесутся к этому случаю соседи, к которым Митя побежал хвастаться?
Палата №6
I
В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним - глядит в поле, от которого отделяет его серый, больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь - вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый, запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, - ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сор и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это - сумасшедшие. Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты N 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом - хлеба, в третьем - копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам еду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голосу и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение. Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, по тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать - желает им спокойной ночи. Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. Потому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.
II
Лет двенадцать - пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств. Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят-семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни. Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а частные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастия внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; а по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.
III
Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда на убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве невозможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, да которые судье платят жалованье, а затем - все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства? Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода. Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат? И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, опешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы караться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то значит, его мучают угрызения совести - какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи - вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного - была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху. Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память. Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа - старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее - это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним. Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату N 6. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.
IV
Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой - оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это - неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад. Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, - к этому можно привыкнуть, - а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка. Пятый и последний обитатель палаты N 6 - мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, загнув голову; если в это время подойти к нему, то он конфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно. - Поздравьте меня, - говорит он часто Ивану Дмитричу, - я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, - улыбается он, в недоумении пожимая плечами. - Вот уж, признаться, не ожидал! - Я в этом ничего не понимаю, - угрюмо заявляет Иван Дмитрич. - Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? - продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. - Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво. Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушатa и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах. Свежих людей редко видят в палате N 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз с два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату №6 будто бы стал посещать доктор.
V
Странный слух! Доктор Андрей Ефимыч Рагин - замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно - не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам. Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь. Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержанного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком - дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; по это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности. Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице: не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу. Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это - выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое: надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости. Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах. Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...» или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, - для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет: - Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение... В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры. Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.
VI
Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер, Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. - Болеем и нужду терпим оттого, - говорит он, - что господу милосердному плохо молимся. Да! Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка. На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер. С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит: - Дарьюшка, как бы мне пообедать... После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки. - Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить, - спрашивает она озабоченно. - Нет, еще не время... - отвечает он. - Я погожу... погожу...
VII
Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек - ему нет и тридцати, - высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга – «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник; потреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п. В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.
VIII
В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Моисейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней. - Дай копеечку, - обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь. Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник. - Как это нехорошо, - подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками. - Ведь мокро. И побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся. - Здравствуй, Никита, - сказал мягко Андрей Ефимыч. - Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится. Слушаю, ваши высокоблагородие. Я доложу смотрителю. - Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил. Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты. - Доктор пришел! - крикнул он и захохотал. - Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! - взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. - Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте! Андрей Ефимыч, слышащий это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко: - За что? - За что? - крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат, - За что? Вор! - проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. - Шарлатан! Палач! - Успокойтесь, - сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. - Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты? - А за что вы меня здесь держите? - За то, что вы больны. - Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество но способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика? - Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность. - Этой ерунды я не понимаю... - глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать. Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил no-еврейскн. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку. - Отпустите меня, - сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул. - Не могу. - Но почему же? Почему? - Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад. - Да, да, это правда... - проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. - Это ужасно! Но что же мне делать? Что? Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал: - Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении - бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. - Никому оно не нужно. - Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы - так я, не я - так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет. Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся. - Вы шутите, - сказал он, щуря глаза. - Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья! Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе: - Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь! - Я не нахожу особенной причины радоваться, - сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень поправилось. - Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. - А бессмертие? - Э, полноте! - Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум. - Хорошо сказано, - проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. - Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование? - Да, я был в университете, но не кончил. - Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира - вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных. - Ваш Диоген был болван, - угрюмо проговорил Иван Дмитрич. - Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? - рассердился он вдруг и вскочил. - Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно! Он в волнении прошелся по палате и оказал, понизив голос: - Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? - спросил Иван Дмитрич. - Что там? - Вы про город желаете знать или вообще? - Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще. - Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов. - Он еще при мне приехал. Что, хам? - Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, - значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город! - Да, несчастный город! - вздохнул Иван Дмитрич. и засмеялся. - А вообще как? Что пишут в газетах и журналах? В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору. - Что с вами? - спросил Андрей Ефимыч. - Вы от меня не услышите больше ни одного слова! - грубо проговорил Иван Дмитрич. - Оставьте меня - Отчего же? - Говорю вам: оставьте! Какого дьявола? Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал: - Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах! - Слушаю, ваше высокоблагородие. «Какой приятный молодой человек! - думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. - За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно». Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.
IХ
Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно. - Здравствуйте, мой друг, - сказал Андрей Ефимыч. - Вы не спите? - Во-первых, я вам не друг, - проговорил Иван Дмитрич в подушку, - а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова. - Странно... - пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. - Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями... - Да, так я вам и поверю! - сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. - Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили. - Странная фантазия! - усмехнулся доктор. - Значит, вы полагаете, что я шпион? - Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, - это все равно. - Ах, какой вы, право, извините... чудак! Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой. - Но допустим, что вы правы, - сказал он. - Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться? Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел. Был пятый час вечера - время, коuда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить, на дворе была тихая, ясная погода. - А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, - сказал доктор. - Совсем весна. - Теперь какой месяц? Март? - спросил Иван Дмитрич. - Да, конец марта. - Грязно на дворе? - Нет, не очень. В саду уже тропинки. - Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, - сказал Иван Дмитрия, потирая свои красные глаза, точно спросонок, - потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко! После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова. - Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, - сказал Андрей Ефимыч. - Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. - То есть как? - Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий от самого себя. - Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли? - Да, вчера со мной. - Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода. - Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий оказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется. - Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости. - Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, в нем - истинное благо. - Уразумение... - поморщился Иван Дмитрич. - Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, - сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, - я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость - негодованием, на мерзость - отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния, - и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, - или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, - продолжал Иван Дмитрич, с раздражением, - и ничего я в этом не понимаю. И не и состоянии рассуждать. - Напротив, вы прекрасно рассуждаете. - Стоики, которых вы пародируете, были замечаюльные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводи! свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века, и сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение... Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб. - Хотел сказать что-то важное, да сбился, - сказал он. - О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия. Иван Дмитрич засмеялся и сел. - Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, - сказал он. - Положим, нужно презирать страдания, ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ? - Нет, я не философ, по проповедовать это должен каждый, потому что это разумно. - Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли? - Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. - А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так. чтобы вас ничто но беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета-сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо - все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить - умирать, и не пить - умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу: А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! - опять рассердился Иван Дмитрич. - Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло! - А может, и не заору, - сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь. - Да, как же! А нот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, - ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу. - Это оригинально, - сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. - Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...
X
Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату N 6. Никто - ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор: - Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, - говорил Иван Дмитрич с раздражением. - С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня. - Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, - проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. - И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами. Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали. - А наш дед, кажется, совсем сдрефил! - сказал Хоботов, выходя из флигеля. - Господи, помилуй нас, грешных! - вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. - Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!
XI
После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» - и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена оправы. Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом. - Тут заявленьице по вашей части-с, - обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. - Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно; это ничего, перевести можно, но главная причина - флигель ремонта захочет. - Да, без ремонта не обойтись, - сказал Андрей Ефимыч, подумав. - Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный. Немного помолчали. - Я уже имел честь докладывать десять лет назад, - продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, - что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовых больницы. - Так вот и давайте заводить другие порядки! - живо сказал член управы. - Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства. - Да, передайте земству деньги, а оно украдет, - засмеялся белокурый доктор. - Это как водится, - согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал: - Надо быть справедливым. Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал: - Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом. Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил: - Андрей Ефимыч, какое сегодня число? Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате N 6 живет замечательный пророк. В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал: - Да, это больной, но интересный молодой человек. Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом: - Нам, старикам, на отдых пора! Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину. «Боже мой, - думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, - ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, - откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!» И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом: - Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! - и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: - Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, по это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной. - Я чувствую себя совершенно здоровым, - оказал Андрей Ефимыч, подумав. - Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу. Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет, - такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему. - А вы, собственно, куда намерены ехать? - спросил он. - В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!
XII
Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить но этим возмутительным дорогам. кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча. «Кто из нас обоих сумасшедший? - думал он с досадой. - Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?» В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички: при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье: лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко. Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: - Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься Приложитесь, голубчик. Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на Царь-пушку и Царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее. Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню. разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома: - Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!
XIII
Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя к доставлять ему возможно больше развлечений. Когда HJ на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом дело, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы. «А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, - думал доктор с досадой. - Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди». В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился вое болтливее и развязнее: настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось. «Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, - думал он, сердясь на свою мелочность. - Впрочем, вздор... Приеду домой, и все пойдет по-старому...» И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива. Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву. - Дорогой мой, зачем я туда поеду? - говорил Андреи Ефимыч умоляющим голосом. - Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас! - Ни под каким видом! - протестовал Михаил Аверьяныч. - Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни! У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал: - Честь прежде всего! Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом: - Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, - обратился он к доктору, - презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей! Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: - Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы! Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. - Друг мой, - сказал ему робко почтмейстер, - извините за нескромный вопрос: какими средствами, вы располагаете? Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал: - Восемьдесят шесть рублей. - Я не о том спрашиваю, - проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. - Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? - Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей. Больше у меня ничего нет. Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.
XIV
Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он при ходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие. Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые, е у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых люден он за все страдания просит только одной награды - одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил: - К черту! И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось. Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к стенке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный той, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязаностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все - и культура, и нравственный закон - пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».
XV
Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случились так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван. - А сегодня, дорогой мой, - начал Михаил Аверьяныч, - у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом! - Пора, пора поправляться, коллега, - сказал Хоботов, зевая. - Небось вам самим надоела эта канитель. - И поправимся! - весело сказал Михаил Аверьяныч. - Еще лет сто жить будем! Так-тось! - Сто не сто, а на двадцать еще хватит, - утешал Хоботов. - Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будег вам тень наводить. - Мы еще покажем себя! - захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. - Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем - гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. - Михаил Аверьяпыч лукаво подмигнул глазом. - Женим вас, дружка милого... женим... Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце. - Это пошло! - сказал он, быстро вставая и отходя к окну. - Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости? Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы. - Оставьте меня! - крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. - Вон! Оба вон, оба! Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. - Оба вон! - продолжал кричать Андрей Ефимыч. - Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость! Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог. - Убирайтесь к черту! - крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. - К черту! По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял: - Тупые люди! Глупые люди! Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером. - Не будем вспоминать о том, что произошло, - сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. - Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! - вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. - Подай стул. А ты подожди! - крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. - Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, - продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. - Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой. Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал: - У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, - зашептал Михаил Аверьяныч, - вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон {человек дурного тона (франц. - mauvais ton).}, между нами говоря, но сведущий; на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами. Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера. - Уважаемый, не верьте! - зашептал он, прикладывая руку к сердцу. - Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов. - Ложитесь в больницу, дорогой мой. - Мне все равно, хоть в яму. - Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча. - Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый. я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному - к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это. - Голубчик, вы выздоровеете. - К чему это говорить, - сказал Андрей Ефимыч с раздражением. - Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется. Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не метать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери. В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось: - А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а? Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности. - А где ваш больной? - спросил Андрей Ефимыч. - У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай. Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся. - Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, - сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. - Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом. И вышел.
XVI
Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо. Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли. - Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, - сказал он тихо. - Вот ваша постелька, пожалуйте сюда, - добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. - Ничего, бог даст, выздоровеете. Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой. - Выздоровеете, бог даст, - повторил Никита. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь. «Все равно... - думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. - Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...» Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унос платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой N 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел. Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся. - Это какое-то недоразумение... - проговорил он, разводя руками в недоумении. - Надо объясниться, тут недоразумение... В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым. - Ага, и вас засадили сюда, голубчик! - проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. - Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно! - Это какое-то недоразумение, - проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: - Недоразумение какое-то... Иван Дмитрич опять сплюнул и лег. - Проклятая жизнь! - проворчал он. - И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю. Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку. - Дай копеечку! - сказал он.
XVII
Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма. «Вот она действительность!» - подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным. Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел. - Я пал духом, дорогой мой, - пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. - Пал духом. - А вы пофилософствуйте, - сказал насмешливо Иван Дмитрич. - Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, - сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. - Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узкость, пошлость! О боже мой! - Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры. - Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... прострация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы! Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить. - Я выйду отсюда, дорогой мой, - сказал он. - Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии... Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу. - Куда вы? Нельзя, нельзя! - сказал он. - Пора спать! - Но я только на минуту, по двору пройтись! - оторопел Андрей Ефимыч. - Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. - Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? - спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. - Не понимаю! Никита, я должен выйти! - сказал он дрогнувшим голосом. - Мне нужно! - Не заводите беспорядков, нехорошо! - сказал наставительно Никита. - Это черт знает что такое! - вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. - Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол! - Конечно, произвол! - сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. - Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят! - Слышишь, тупая скотина? - крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. - Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер! - Отвори! - крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. - Я требую! - Поговори еще! - ответил за дверью Никита. - Поговори! - По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту! - Завтра они сами придут. - Никогда нас не выпустят! - продолжал между тем Иван Дмитрич. – Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! - крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. - Я размозжу себе голову! Убийцы! Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину. Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били. Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел, крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одною звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.
XVIII
Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно. Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал. «Мне все равно, - думал он, когда ему задавали вопросы. - Отвечать не стану... Мне все равно». После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Поледенело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка. Проверьте себя1. Опишите больничный двор.
2. Почему сторож Никита считает, что больных надо бить?
3. Дайте описание одному из обитателей палаты №6.
4. Расскажите, как проводит осмотр больных доктор Рагин?
5. Соответствует ли образ Рагина занимаемой должности и почему?
6. Один из больных палаты №6 Иван Дмитрич считает, что доктор Рагин, и все работники больницы сумасшедшие, но гуляют на свободе: можно ли согласиться с ним и почему?
7. Почему доктор Рагин стал посещать палату №6?
8. Как городская управа обошлась с Рагиным?
9. Почему Рагин оказался в палате №6 в качестве больного?
Приглашаем в библиотеку
Прочитайте следующие произведения М.Ю.Лермонтова:
«Княгиня Лиговская»
«Мцыри»
«Маскарад»
«Демон»
«Русалка»
Прочитайте следующие рассказы А.П.Чехова:
«Мальчики»
«Невеста»
«Человек в футляре»
«Случай из практики»
«Дама с собачкой»
«Крыжовник»
Литература
1. Рогов О. И. «М.Ю.Лермонтов. Лирика. Избранное, анализ текста, литературная критика, сочинения», Издательство: Москва, ACT, 2005.-С85.
2. Вырыпаев П. А. Лермонтов: Новые материалы к биографии. — 2-е изд. — Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1976. — С 160.
3. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова М.; Л.: Наука, 1964. С. 250-252. Герштейн Э. Г. «Герой нашего времени» М Ю. Лермонтова М., Художественная литература, 1976. С. 48,49,60,116.
4. Усок И. Е. Историческая судьба наследия М. Ю. Лермонтова // Время и судьбы русских писателей. М.: Наука, 1981. С. 73-74.
5. Ашимбаева К. Т. Русская классическая литература в критике Анненского: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Л., 1986. С. 18-20;
“Методическое пособие по проведению литературных чтений (на материале творчества М.Ю.Лермонтова и А.П.Чехова )”
Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании
кафедры узбекского и русского языков
от «11 » 10 .2016 протокол № 18
Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании
научно-методического Совета Факультета Профессионального
образования в сфере ИКТ
от « 8 » 11.2016 протокол №3
Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании
научно-методического Совета ТУИТ
от « 23 » 12.2016 протокол № 4(95)
Составитель: Абдуллаева С.Х. Доспанова Д.У.
Рецензенты: Меденцева Н.П.
Караева К.Н..
Корректор: Носиров Л.Х.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Глава I. Биография……………………………………………………….
Глава II. На Кавказе …………………………………………………….
Глава III.Лермонтов – художник………………………………………
Глава IV.Лирика Лермонтова .................................................................
Антон Павлович Чехов.
Глава I. «В детстве у меня не было детства…»………………………
Глава II. Доктор Чехов……………………………...………………...
Глава III. «Скверно вы живете, господа….»…………………………
Глава IV.Остров Сахалин.........................................................................
Глава V.Жизнь в Мелихове...................................................................................